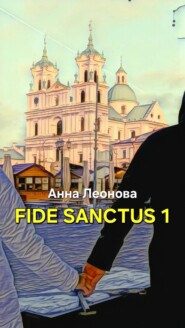По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Fide Sanctus 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не поставил он ему, – рассеянно пояснила Полина. – Говорит, «не он делал». Мол, его переводы в первом и втором семестрах кошмарно отличаются.
Внутренний Агрессор хмыкнул и побагровел.
Хорошо, блин, устроился.
– У Еремеева новый виток климакса? – хмуро отозвался Петренко.
– Ты у меня спрашиваешь?! – вспылила коллега по старостату. – Просто скажи своим, что Еремеев настроен серьёзно. И зайди в деканат, тебя ядерная война искала. Бессмертный, что ли, – не вернуть ей оригиналы статей?
Махнув копной волос, Полина рванулась к выходу, распихивая локтями студентов.
Безразлично засунув в рюкзак символы надоевшей социальной ответственности, Олег двинулся по её следам, пропуская вперёд тех, кто сильнее спешил под мартовское небо. Толкнув тяжёлую дверь, неторопливый склонный к опозданиям староста шагнул во двор, залитый набирающим силу солнцем. Властные шквалы ветра пахли терпкой свежестью ранней весны.
…Март обрушился на голову без единого предупреждения; застучал по карнизам капелью и побежал в землю ручейками снега. Самый настойчивый снег, впрочем, ещё укрывал тротуары кучами блестящего стройматериала, который многие превращали в сырьё для прощальных снежков. Весна в этом году не опоздала; был только пятый день марта, а она уже свежим муссоном влилась в каждый уголок города.
Будоража надежды и утепляя мечты.
Сегодня толкаться в транспорте не хотелось особенно сильно.
Обогнув край маленького сквера, Олег вышел на улицу Пушкина, что пахла хлебозаводом и вилась узкой лентой между центром города и его жилым сектором.
Сырой ветер мягко ласкал лицо; на обочинах копошились дворники в ярких жилетках; в сточных решётках глухо гудела вода, что ещё недавно была снегом.
Моральная опустошённость стала вечным спутником; она отступала редко и неохотно.
У этой опустошённости просто не было выхода; не было.
– Вот ты говоришь, «бога нет», – лукаво протянул Спасатель, подперев рукой выбритый подбородок. – Но кто же тогда оставил Марину в старом корпусе?
…Едва Варламов отошёл от гневной ошарашенности при виде Улановой бок о бок со Святом, он с жаром взялся за искусную пассивную агрессию.
С ним и раньше было невозможно поговорить; теперь же настал полный аут.
Артур явно чувствовал себя полным дураком и совершенно не знал, что делать. Всё указывало на то, что Свят преуспел в споре, но пари отменил, – а значит, старина Артурио не только проиграл, но и стал моральным евнухом, которому простили проигрыш.
Дабл трибл. Держись, кукловод.
Свят Артуру был слишком выгоден, и весь гнев, что он не мог в открытую посвящать сыну заведующего кафедрой, он короткими плевками лил на Олега.
– Себе надо говорить «держись», – прошептала заплаканная Жертва. – Себе, дурачок.
Отныне в их компании пуще прежнего замалчивались важные вопросы и отрицались любые противоречия; мозгу эмпата было невыносимо существовать в этой атмосфере. Если бы она только знала, что друзьям её чёртового парня теперь хоть удавись.
Каждому по своей причине.
– Да она знает, слушай, – сообщил Агрессор, сложив руки на груди. – О тебе – точно.
Знает, наверняка. Ведь её эмпатичные глаза горят пониманием и почти сочувствием.
Как это мило. Конечно, я жду от тебя именно сочувствия.
– А чего ты ждёшь от неё? – прошипел Спасатель, толкнув Хозяина в бок. – Уймись.
Да, чего? Какое чувство при виде Веры и Свята было самым громким?
Вроде не злость – какой бы сильной она порой ни была.
Не зависть. Не усталость. Не досада. Не тяга. Не раздражение.
А что?
До чего просто было поначалу верить, что его – борца за справедливость – злил только факт пари, который унижал как своих создателей, так и свой объект.
И до чего сложно стало теперь – когда он понял, что его злило на самом деле.
Смиренно добродетельнопринципствовать и демонстрировать по отношению к Вере только учтивость, становилось тяжелее и тяжелее – с каждым днём. С появлением Улановой его Корабль ежедневно рисковал затонуть.
До того свирепые штормы рвали на части Бермудское море и сердца экипажа.
Спасатель – суетливый добропорядочный альтруист с тонной обязанностей – кричал, что нельзя предавать дружбу. Он привычно пытался окружить заботой тех, за кого, по его мнению, нёс прямую ответственность – мать и Святослава.
Жертва – тусклая девица с жидкими волосами, что превыше всего ценила жалость, – считала себя заложником этой жестокой ситуации; она кошмарно обижалась на подопечных Спасателя: за их извечную невзрослость.
Агрессор же – дерзкий своенравный волюнтарист с кошачьей грацией, изумрудами вместо глаз и кучей гражданских прав – брал на себя самое сложное и неблагодарное.
Он злился на тех, кого был вынужден нянчить Спасатель, напористо оберегал истинные желания Хозяина и отказывался ругать его за содержимое сердца.
И это – это – было грозовее всего.
Решив войти со стороны курилки, Олег миновал парк Жилибера и свернул за угол спящего зимой кафе. С лавочки донёсся кокетливый оклик одной из навязчивых любительниц светского трёпа. Угрюмо проигнорировав её, он дошёл до беседки во внутреннем дворе универа, окинул взглядом старый корпус и застыл.
Сто лет будут жить.
* * *
Издав победный рык, Свят сделал несколько шагов и упал на колени возле огромного сугроба. Вера наклонилась к земле, собрала кучу снега и принялась утрамбовывать его между ладоней.
Её куртка была расстёгнута, шарф съехал с шеи, а щёки алели как грудки снегирей.
Наконец удовлетворившись видом холодного оружия, она отвела руку назад и с силой швырнула снежок в сторону малодушного елисеевского тыла.
И именно в эту минуту её наивный бойфренд вздумал выяснить обстановку.
Просвистев по воздуху, гигантский снежок врезался аккурат в его лоб и взорвался сотней ледяных драже.
– ОХ, Ё! – заорал Елисеенко; завертевшись, как небрежно пущенный волчок, он принялся стряхивать с волос и лба комья снега.
Его противница заливисто захохотала, а наблюдатели в курилке беззвучно захихикали.