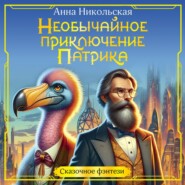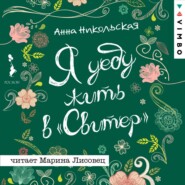По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стучитесь в личку
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мама! Как ты так можешь? Он ведь живой.
– Он нас бросил, а это – хуже, чем если бы он на самом деле умер.
Мама разрезает не морковь, а кухонное пространство. В одном кусочке я, в другом – она со своим острым ножом.
– Кому хуже? Тебе? – я вдруг начинаю злиться. – Меня же в школе сироткой дразнили! Мне же сны снились! Я же все время думала, что у меня папы нет!
– А у тебя его и нет, – спокойненько так отвечает мама. – Он предал тебя. Он женился на другой женщине. Ты ему не нужна, понятно?
– Нужна! Он мне сам сказал. Это ты ему не нужна!
– Не ори, хозяйка услышит, – мама невозмутимо вываливает свою дурацкую морковь в сковородку.
– Да мне пофиг!
– Выбирай выражения! Сказал он ей! Он тебе сейчас и не такого наговорит. Очнулся через восемь лет, говорун.
– Папа меня искал! Он же писал мне! Почему ты мне его письма не показывала?
– Не показывала для твоего же блага.
– Ты врешь! Все врешь! И все время врала!
– Успокойся, сказала. Лучше послушай меня, – говорит мама ледяным тоном и включает газ под сковородкой. – Твой отец – подлый человек. Ты не знаешь и половины того, что… – она вдруг замолкает.
– Чего?
– Не важно… Дочка… – мама вдруг вся как-то обмякает и опускается на табурет.
Мне становится страшно. Ей что – плохо?
Я привыкла, что мама всегда одинаковая – строгая и… Да, черствая, как позапозавчерашний батон. Как будто ее, как Железного Дровосека, сделали из железа, а внутрь положили только вот эти строгость и черствость. И больше ничего не положили.
– Я тебе не сказала правды тогда, – говорит мама с табурета, – но я сделала это ради твоего же блага. Я хотела, чтобы ты помнила папу хорошим. Чтобы тебя вся эта грязь не касалась… В той ситуации это было самое лучшее, что я могла для тебя… для нас с тобой сделать, – мама подходит к окну и смотрит во двор, как будто кого-то ждет. – Я, наверное, виновата перед тобой.
Во дворе между пальмами кто-то натянул веревку с мокрым бельем. С семейными трусами и майками. А на скамейках сидят старушки и кричат своим внукам, чтобы они не хватали Степана за лапы. Но внуки все равно хватают этого Степана.
– Прости.
Я подхожу к маме – у нее уставшее белое лицо без косметики, и она похожа на медузу, которую вышвырнуло прибоем на берег.
– Обещай, что никогда больше меня не обманешь.
– Обещаю, – кивает мама.
Она никогда не пользуется косметикой. Только ночным кремом, который вкусно пахнет какими-то цветами. Так пахнет на лугу в километре от Фирсовки, когда июль и только что прошла гроза.
Мне хочется обнять маму, но вместо этого я говорю:
– Папа меня в гости позвал.
– Нет.
– Ну мама!
– Даже и не думай, – она моментально становится прежним черствым батоном.
– Но почему? – к горлу опять подкатывает злобный шарик. Я вскакиваю.
– Сиди, – командует мама. Иногда мне кажется, она путает меня с собачонкой. – Ты не будешь с ним общаться. Я запрещаю, понятно?
– Понятно.
– Мой руки, и будем ужинать.
– Не хочу, – говорю я и иду в комнату, но на пороге останавливаюсь. Дверь в комнату Глафиры Леопольдовны быстренько закрывается.
– Мама, а баба Лиза?..
Мама качает головой.
Я не стала спрашивать у нее, отчего умерла бабушка. Мне почему-то было уже все равно.
* * *
А с папой мы все-таки стали общаться. Все вышло из-за школы. Вернее, из-за тети Боти. Это она рассказала папе, что мы вернулись в город и что меня не берут в школу.
– Кто тебя за язык тянул? – злилась мама. – Мне не нужны его подачки и покровительство!
– Причем тут ты, вообще? – спокойно возражает тетя Ботя.
Она сидит на моей кровати и подпиливает ногти. Они у нее длиннющие, как у Дожи Кэт.
– Ты лучше о дочери задумайся – так, на секундочку. Данил, между прочим, не последний человек сейчас в городе.
Тетя Ботя училась с моим папой в одном классе, а с мамой – на одном курсе в пединституте. Это она маму с ним познакомила, когда они еще были студентами. По папиной просьбе – он маму один раз увидел и сразу влюбился.
– Он сейчас, знаешь, как развернулся? На днях опять купил заводик, в «Краснодарской правде» про это целая статья. У него недвижимости по всей Европе понатыкано, как грибов после дождя!
– Господи, да какая мне разница? – перебивает мама. – Кто он теперь, что он? Где он был раньше? Он все эти годы, вообще, думал о Вале? Он хоть копейкой нам помог?
– Ты же сама отказалась от алиментов, – парирует тетя Ботя. – Не надо его во всех смертных грехах винить.
Мама молчит, не отвечает. Она чувствует, что тетя Ботя на папиной стороне, и это ее бесит.
– Ладно, ты свою гордость-то поумерь! О Валентине думай в первую очередь. Ты хоть в курсе, что это за школа? Элитная, языковая! – говорит тетя Ботя с особым ударением и кладет пилочку в сумку. – Там половина педсостава – носители языка. В нее абы кому с улицы не попасть – там обучение стоит бешеных денег. Оттуда после восьмого класса в Англию прямая дорога. Учеников в любой колледж берут с распростертыми объятиями, а там и Кэмбридж не за горами. У них там, мне Пахомов рассказывал, чуть ли не золотые унитазы в туалетах стоят. Компьютеров больше, чем самих детей. А знаешь, сколько там нашему брату в месяц платят?
– Не знаю и знать не хочу.
– Он нас бросил, а это – хуже, чем если бы он на самом деле умер.
Мама разрезает не морковь, а кухонное пространство. В одном кусочке я, в другом – она со своим острым ножом.
– Кому хуже? Тебе? – я вдруг начинаю злиться. – Меня же в школе сироткой дразнили! Мне же сны снились! Я же все время думала, что у меня папы нет!
– А у тебя его и нет, – спокойненько так отвечает мама. – Он предал тебя. Он женился на другой женщине. Ты ему не нужна, понятно?
– Нужна! Он мне сам сказал. Это ты ему не нужна!
– Не ори, хозяйка услышит, – мама невозмутимо вываливает свою дурацкую морковь в сковородку.
– Да мне пофиг!
– Выбирай выражения! Сказал он ей! Он тебе сейчас и не такого наговорит. Очнулся через восемь лет, говорун.
– Папа меня искал! Он же писал мне! Почему ты мне его письма не показывала?
– Не показывала для твоего же блага.
– Ты врешь! Все врешь! И все время врала!
– Успокойся, сказала. Лучше послушай меня, – говорит мама ледяным тоном и включает газ под сковородкой. – Твой отец – подлый человек. Ты не знаешь и половины того, что… – она вдруг замолкает.
– Чего?
– Не важно… Дочка… – мама вдруг вся как-то обмякает и опускается на табурет.
Мне становится страшно. Ей что – плохо?
Я привыкла, что мама всегда одинаковая – строгая и… Да, черствая, как позапозавчерашний батон. Как будто ее, как Железного Дровосека, сделали из железа, а внутрь положили только вот эти строгость и черствость. И больше ничего не положили.
– Я тебе не сказала правды тогда, – говорит мама с табурета, – но я сделала это ради твоего же блага. Я хотела, чтобы ты помнила папу хорошим. Чтобы тебя вся эта грязь не касалась… В той ситуации это было самое лучшее, что я могла для тебя… для нас с тобой сделать, – мама подходит к окну и смотрит во двор, как будто кого-то ждет. – Я, наверное, виновата перед тобой.
Во дворе между пальмами кто-то натянул веревку с мокрым бельем. С семейными трусами и майками. А на скамейках сидят старушки и кричат своим внукам, чтобы они не хватали Степана за лапы. Но внуки все равно хватают этого Степана.
– Прости.
Я подхожу к маме – у нее уставшее белое лицо без косметики, и она похожа на медузу, которую вышвырнуло прибоем на берег.
– Обещай, что никогда больше меня не обманешь.
– Обещаю, – кивает мама.
Она никогда не пользуется косметикой. Только ночным кремом, который вкусно пахнет какими-то цветами. Так пахнет на лугу в километре от Фирсовки, когда июль и только что прошла гроза.
Мне хочется обнять маму, но вместо этого я говорю:
– Папа меня в гости позвал.
– Нет.
– Ну мама!
– Даже и не думай, – она моментально становится прежним черствым батоном.
– Но почему? – к горлу опять подкатывает злобный шарик. Я вскакиваю.
– Сиди, – командует мама. Иногда мне кажется, она путает меня с собачонкой. – Ты не будешь с ним общаться. Я запрещаю, понятно?
– Понятно.
– Мой руки, и будем ужинать.
– Не хочу, – говорю я и иду в комнату, но на пороге останавливаюсь. Дверь в комнату Глафиры Леопольдовны быстренько закрывается.
– Мама, а баба Лиза?..
Мама качает головой.
Я не стала спрашивать у нее, отчего умерла бабушка. Мне почему-то было уже все равно.
* * *
А с папой мы все-таки стали общаться. Все вышло из-за школы. Вернее, из-за тети Боти. Это она рассказала папе, что мы вернулись в город и что меня не берут в школу.
– Кто тебя за язык тянул? – злилась мама. – Мне не нужны его подачки и покровительство!
– Причем тут ты, вообще? – спокойно возражает тетя Ботя.
Она сидит на моей кровати и подпиливает ногти. Они у нее длиннющие, как у Дожи Кэт.
– Ты лучше о дочери задумайся – так, на секундочку. Данил, между прочим, не последний человек сейчас в городе.
Тетя Ботя училась с моим папой в одном классе, а с мамой – на одном курсе в пединституте. Это она маму с ним познакомила, когда они еще были студентами. По папиной просьбе – он маму один раз увидел и сразу влюбился.
– Он сейчас, знаешь, как развернулся? На днях опять купил заводик, в «Краснодарской правде» про это целая статья. У него недвижимости по всей Европе понатыкано, как грибов после дождя!
– Господи, да какая мне разница? – перебивает мама. – Кто он теперь, что он? Где он был раньше? Он все эти годы, вообще, думал о Вале? Он хоть копейкой нам помог?
– Ты же сама отказалась от алиментов, – парирует тетя Ботя. – Не надо его во всех смертных грехах винить.
Мама молчит, не отвечает. Она чувствует, что тетя Ботя на папиной стороне, и это ее бесит.
– Ладно, ты свою гордость-то поумерь! О Валентине думай в первую очередь. Ты хоть в курсе, что это за школа? Элитная, языковая! – говорит тетя Ботя с особым ударением и кладет пилочку в сумку. – Там половина педсостава – носители языка. В нее абы кому с улицы не попасть – там обучение стоит бешеных денег. Оттуда после восьмого класса в Англию прямая дорога. Учеников в любой колледж берут с распростертыми объятиями, а там и Кэмбридж не за горами. У них там, мне Пахомов рассказывал, чуть ли не золотые унитазы в туалетах стоят. Компьютеров больше, чем самих детей. А знаешь, сколько там нашему брату в месяц платят?
– Не знаю и знать не хочу.