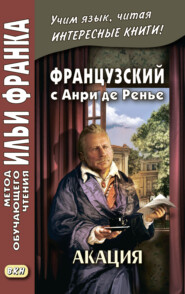По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Маркиз д'Амеркер (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я позвонил. Слуга мне сказал, что г-н де Нуатр в своей комнате, которую он не покидает уже несколько недель. Часы пробили одиннадцать, я постучался и, не дожидаясь, открыл дверь и остановился на пороге; сумрак наполнял обширную комнату. Окно должно было быть открыто, потому что я слышал, как стучал дождь снаружи по мостовой пустынной улицы, на которую выходил задний фасад дома. Я позвал г-на де Нуатра. Ответа не было. Я ощупью подвигался в темноте. Немного угольков тлело в камине. Я зажег об них факел, который нащупал рукой на консоле. Пламя затрещало. Распростертое на паркете ничком, лежало тело. Я повернул его на половину и узнал г-на де Нуатра. Широко раскрытые его глаза глядели, стеклянные, из агатовых вывороченных век. На углах его губ пенилась алая слюна. Его рука запачкала мою кровью, когда я коснулся ее; я откинул черный плащ, в который был завернут труп. В животе у него была глубокая рана, нанесенная шпагой. Я не испытывал никакого страха. Нестерпимое любопытство овладело мною. Внимательно я осмотрел все вокруг. В комнате все было в порядке. Кровать раскрывала свои белые простыни. На паркете из косоугольников светлого дерева рисовались грязные следы; они шли от окна к тому месту, где лежал г-н де Нуатр. Странный запах кожи и рогов осквернял воздух. Огонь затрещал. Две рядом лежащие головни вспыхнули, и я увидал тогда, что несчастный упал ногами в камин, и что пламя сожгло его башмаки и обуглило тело.
Эта двойная смерть взволновала Окрию. Меня призывали в высший суд и после показаний, мной данных, меня больше не тревожили.
Связь между этими трагическими фактами навсегда осталась сомнительной и неустановленной. Так как г-жа де Ферлэнд не оставила наследников, то все имущество ее перешло к бедным, вместе с тем, что г-н де Нуатр, тоже бездетный, оставил ей по завещанию, в котором он отказал мне, в память о нем, бронзового кентавра, украшавшего сени его дома, который держал в руке шишку из оникса».
Лакей вошел, хромая, и одну за другой зажег свечи в подсвечниках и большой канделябр, который он поставил на стол. Потом он растворил застекленные двери, чтобы закрепить наружные ставни. Ветер все продолжался. Снаружи доносился запах роз и букса, и, привлеченная светом, маленькая летучая мышь носилась по обширной комнате. Она блуждала под потолком, точно она хотела нам начертить круг, без конца возобновляемый, но каждый раз прерывавшийся резкими зазубринами. Ее нежные крылья быстро бились. Маркиз сидел, завернувшись в свой широкий плащ из шелка, затканного узорами, и мы глядели на быстрое животное, которое с терпеливым ожесточением исполняло свое таинственное дело, прерываемое петлями его спешки, и путалось в обманных извилинах и в безвыходных сетях своего полета, который чертил воздух магическими росчерками своего прерывного заклятия.
Поездка на остров Кордик
С шумом захлопнутая дверь пробудила эхо, дремавшее в глубине длинной галереи между двух кариатид, что стояли в конце ее. Каменные бедра поддерживали их торсы из бледного мрамора, отливавшие вечной испариной, и сплетения их поднятых рук подпирали высокий золотой потолок. Мозаика пола мерцала, и я шел медленными шагами в гулкой пустоте этого места, размышляя о том, что душа государя была скользкой и опасной, как эти плиты, и так же испещрена странными фигурами и переплетенными арабесками.
Несогласие, возникшее между его высочеством и мною, тревожило меня. Мое упорство столкнулось с его капризом. Целый час он силился побороть то, что он называл моим упрямством. Я снова видел его в обширном кабинете, наполненном оружием и куклами, так как он увлекался стальными лезвиями и любил играть уродцами; он был знатоком мечей и марионеток; он имел пристрастие к доспехам на стенах и к чучелам, он собрал целую коллекцию одних и большое собрание других; но в глубине души оружие занимало его меньше, чем марионетки. Их лица из раскрашенного воска, их тряпичное тело, руки из гибких прутьев были удобны для игры в гримировку, в наряды и позы, для переодеваний в различные костюмы и мундиры, и маленький рост их служил государю для опытов в миниатюре; по ним он регламентировал затем форменную одежду солдат, ливреи и даже дамские туалеты; он считал себя в этом весьма искусным, и сам заимствовал иногда кое-что от своих кукол, не столько ради развлечения, сколько с тайной надеждой вызвать удивление грациозностью своих переодеваний и изяществом маскарадов.
Я снова видел его, окруженным своими куклами и настаивающим с упорством маниака, соединенным с опытностью дипломата, на том, к чему он желал склонить меня. Временами он останавливался перед зеркалом, чтобы оправиться, и я видел отражение его беловатого лица и большого носа; полы кафтана задевали его по ногам, и он возвращался ко мне, желая, в конце концов, больше настоять на своем, чем убедить меня в правоте своего мнения. Характер го-сударя был мне достаточно известен, чтобы в обыкновенных случаях, с помощью какой-нибудь увертки, ускользнуть от насилий его фантазии и от западней его настроений, но на этот раз гнев делал его ясновидящим, и ничто не могло отклонить его от задуманного предприятия, ничто, даже смешные стороны, на которые я указывал ему, доведенный до крайности, рискуя этим вызвать опасную вспышку его тщеславия. Все было напрасно, и по легкому дрожанию его и по нехорошему свету его желтых глаз, я понял, что кривые пути привели меня к тому перекрестку, откуда расходятся дороги, что легко могут оказаться дорогами опалы.
Я вернулся домой, чтобы размыслить о трудности моего положения, и все еще искал средства выйти из неприятного осложнения, когда, на другой день утром, мне принесли эстафету. Его высочество приказал мне собраться, не медля, на остров Кордик, оставить мою карету на берегу и переправиться одному, чтобы явиться в известное место; где я найду его инструкции. Поборов свою тревогу, я решил счесть за доброе предзнаменование тот оборот, который принимали события. Высочайший гнев казался мне слабеющим и я возымел надежду ускользнуть от последствий, опасаться которых заставляла меня одну минуту его чрезмерность; скучное путешествие и в конце какое-нибудь дурачество, которому я охотно подчинюсь, представлялись мне возможным исходом. Часто подобные приключения разрешались таким образом, и на ухо сообщались случаи, когда очень важные особы должны были претерпеть, как наказание, злостные буффонады государя-маниака, забавная злопамятность которого удовлетворялась посмеянием или досаждением, и я решил охотно прибавить за свой счет еще лишний рассказ к легендам, делавшим из нашего странного господина тему для сочинителей романов и рассказчиков новостей. Во всяком случае, он принадлежал гораздо больше анекдоту, чем истории. Его маленький двор был удивителен. Падения там были похожи на кувыркания, акробатничество честолюбий соседило с пируэтами тщеславий.
Тяжелые лошади с заплетенными хвостами били копытами о мостовую. Кучер подбоченился на своих козлах; я сел, дверца хлопнула, колеса завертелись, карета миновала ограду. Дворец высился в глубине большой площади, сероватый в утреннем сумраке. Почетный двор был пуст. За стеклом одного окна в северном крыле, где находились личные апартаменты государя, я заметил его, наблюдавшего за моим отъездом, приподняв рукой занавеску, которую он опустил, когда я проезжал.
Дорога мчалась, дерево за деревом, межа за межой, город за городом. Почтовые станции чередовались с гостиницами; звенели сводчатые мосты; подъемы замедляли лошадей, которые рвались на спусках; паром перевез меня через реку.
Я никогда не посещал острова Кордик. Опасный морской пролив отделял от побережья его рыбацкий порт и его невозделанные земли… К утру третьего дня я почувствовал близость моря. Деревья росли кривые, малорослые, узлистые, как бы для того, чтобы лучше противиться своими карликовыми мускулами натискам ветра. Воздух свежел. На одном повороте я увидал воды. Они простирались, нежно-серые под бледным небом. Вскоре дорога свернула на узкий полуостров, каменистый и песчаный, лишенный всякой растительности вплоть до смиренной деревушки на его оконечности… Карета остановилась, я слез. Море шумело предо мною на маленькой отмели, по которой мягко отпечатывались следы. Несколько лодок стояло в бухте одна из них согласилась перевезти меня на остров: я отплыл, взяв с собой дождевой плащ, и глядя, как уменьшается мало-помалу на берегу моя карета, неподвижная, с толстым кучером в зеленой ливрее, со своими расписными Дверцами и лошадьми в яблоках, рывшими копытом влажный песок, в котором уже сочилась вода прилива.
Лодка медленно покачивалась; вода вокруг нее становилась синей под ясным небом. Волны вздували свои зеленоватые округлости; иногда одна разверзалась пеной, большинство же выгибало свои спины неприметными хребтами. Глубокое внутреннее движение, воодушевляло их, мачта скрипела. Якорь, еще струясь той глубиной, откуда его вытащили, сжимал свои крабьи клешни; он лежал на палубе, ракообразный и шершавый; кружили чайки. Наконец, появился на горизонте берег, сперва низкий, и стал расти мало-помалу. Он выходил из моря по мере того, как мы приближались; скоро мы увидели его высокие туманные скалы; они рисовались все четче. Мы плыли вблизи острова; обогнув каменный мыс, мы увидели порт. Очутившись на берегу, я направился в поиски за гостиницей, а затем пошел бродить вдоль моря. Отлив обнажил дно бухты; водоросли сочились между плит набережной, они свисали, липкие и лоснящиеся. Дети играли, катая валуны по плитам. Курил, чиня парус, старый рыбак.
Мне захотелось взобраться на прибрежный утес, куда вела тропинка, обрывистая и поросшая травой. Мех рыжих вересков покрывал его спину; оголенные его бедра отвесно падали в море. Терпкий зной накалял камень. С конечной точки моего пути раскрывался вид на часть острова. Она была продолговата, лишена деревьев, ужасала пустынностью своих мхов, похожих на шерсть, из-под которых проступали лбы камней – костяк ее бурой наготы.
Солнце село, багрянея, весь остров стал сиреневым, как бы обветшав во внезапной осени сумерек. По морю скользили кое-где возвращающиеся лодки… Землисто-желтые паруса были похожи на увядшие листья – единственные, которые ветер носил вокруг этого острова, лишенного деревьев, где я невольно спрашивал себя, с какой, собственно, целью отправил меня государь, и где, благодаря скуке, которую» я уже начал испытывать, раздражение его для меня обращалось в мщение.
Паруса цвета охры все еще скитались по лиловатому морю. Геральдические облака покрывали гербами небо; баркасы вошли в порт в то время, когда я спустился; гостиница моя выходила на набережную, и вечером, поднявшись в свою комнату, я слышал, как они, пленные в гавани, глухо жаловались и терлись канатами своих якорей.
Когда я проснулся на следующий день, небо было серо и плотно; резкий ветер вытягивал бегущие облака; зеленоватое море белело пеной, и натиск волн тревожил скалы. Я взял проводника, чтобы он довел меня до указанного места, где должна была разрешиться загадка моего путешествия.
Место это было – каменный стол, расположенный на южной оконечности острова. Мы пересекали нескончаемые верески; паслись стада черных баранов. Каждый из них был привязан веревкой к колу, чтобы стада не перепутались. Они спокойно жевали. Приближение наше пугало их. И они, как бы охваченные безумием, начинали кружиться вокруг своих кольев, и на этой дикой равнине эти бараны-колдуны, казалось, чертили зловещие круги.
Я расспрашивал человека, который меня вел. Он рассказал мне о страшных зимах на острове, об ураганах, кидающихся приступом на берега, о распахивающихся дверях, об опрокинутых домах, о жителях, принужденных ползать от силы ветра, обо всем этом несчастном зверином племени, защищающемся от непогоды скотскими позами и шерстяными одеждами. Мы все шли; ветер крепчал по мере того, как местность повышалась. Чувствовалась его хватка. Его угрюмость переходила в грубость; коварные нападения обманывали; даже его исчезновение сбивало с толку. Мы были теперь на плоскогорье, отвесно рухнувшем в море глыбами, снизу штурмуемыми приливом. Это был двойной вопль, один несвязный, другой застывший. Клочья пены пролетали над головой.
Высокий каменный стол подымался в этом месте. Там под осколком скалы я нашел, как меня и предупреждали, высочайший приказ; я прочел, ошеломленный, что в том случае, если стану упорствовать, изгнание в этой суровой земле вразумит меня. Надо было выбирать на месте. Жестокость этого приговора показала мне всю его серьезность. Ожидаемое дурачество принимало трагическую личину. Огоньки в желтых глазах мне не солгали.
Я поглядел вокруг. С самого горизонта устремлялись огромные взводни. Их сила взрывалась белыми пенами, угрюмые скалы отражали свирепый прибой. Их зевы и крупы противились натиску валов, изрытая пену и струясь влагой. Ветер свистел в жестких травах. Гордость моя возмутилась; смятение моря вошло в мою душу; я блуждал в течение всего дня. Я слишком хорошо знал полицию его высочества, чтобы мечтать о побеге. Жребий казался неотвратимым. Я понял ошибку своей дерзости. Воспротивившись капризу маниака, я задел тщеславие деспота, и в опасном манекене, слишком часто служившем мне предметом забавы, моя бравада пробудила наследственную злопамятность потомка древней расы, семена которой пребывали скрытые в душе этого странного высочества. Я забыл, что в том кабинете, где были собраны куклы и оружие, одиноко, в стороне, под золотым орлом с развернутыми крыльями, рука Справедливости из пожелтевшей слоновой кости сжимала на стене свой грубый кулак, кулак предка – основателя династии.
Я ходил весь день. Я спускался к маленьким отмелям, выщербленным среди яростных скал. Песок там был розовый, синеватый или серый, иногда почти красный, я открывал гроты, зеленовато-золотистые, полные кругляков, водорослей и раковин, со сталактитами, которые делали их похожими на внутренность фантастических карет. Вся моя жизнь припомнилась мне со всеми ее празднествами, маскарадами и наслаждениями. Я слышал смех женщин. Обнаженные, одна за другой, вставали они из моря. Я понял тогда обаяние любви и радость красоты… Я чувствовал себя к ним влекомым всеми силами моей юности, которую нежданный приказ неволил к внезапному выбору между гордостью и вожделением. Я возвратился в маленький порт. Вечер был печален.
Снова я видел черных баранов, кружащихся около своих кольев; мне казалось, что они чертят вокруг меня магические круги, как если бы они заговаривали мою судьбу зловещими знаками своего головокружительного плена. Пленные баркасы тоже стонали на якорях. Они не могли выйти сегодня в море. Моряки, собравшиеся без дела на набережной, спали или играли в кости. Один из них, очень старый, долго глядел, как я хожу взад и вперед, после отвернулся с презрением и плюнул на землю.
Он угадывал, быть может, низость моего тайного упадка сил; страх изгнания сломил мою гордость; вожделения моей молодости влекли меня вдаль от ужасного острова, смысла которого я не понял, и горького величия которого я не почувствовал. На следующий день я уже был на материке. Лошади в яблоках взвивались в моей упряжке, кучер в зеленой ливрее хлестал их лоснящиеся крупы, заплетенные хвосты отгоняли мух, в расписных дверцах отражалась дорога, дерево за деревом; решетка моего дома растворилась передо мною. Мозаики галереи переплетали под моими ногами свои фигуры и арабески, и, в обширном государевом кабинете, переполненном куклами и мечами, против древнего кулака из слоновой кости, чью тяжесть я испытал на своем плече, перед этим насмешливым и смягчившимся фантошем, расставившим свои тощие ноги и распускавшим павлиний хвост своего мундира в круглых бриллиантовых звездах, я склонился, в знак моей покорности, к руке, которую его высочество изволило протянуть, и поцеловал перстень с печатью, оттиск которой я узнал на том письме, что свирепый ветер вырвал у меня из рук и унес в море, бушевавшее вокруг обнаженного, скалистого и пустынного острова Кордик.
Знак ключа и креста
По мере того, как я знакомился с улицами города, мне вспоминалась одна из историй, рассказанных когда-то маркизом д'Амеркером. Не называя того места, где случилось это приключение, он описал его так подробно, что сегодня я узнавал его, по мере того, как передо мною вставал этот старый город, благородный и монастырский, разрушающийся в ограде своих развалившихся укреплений, на берегу желтоватой реки, супротив обнаженных гор на горизонте, город с тенистыми и залитыми солнцем улицами, с древними замкнутыми особняками, с церквами, с переменным звоном многочисленных монастырей.
Я нашел его точно таким, каким он описал мне его, этот город: нагромождением старых камней, мрачным и сияющим, застылым в пыльном окостенении от зноя и одиночества и своими еще сохранными памятниками, являвшим скелет былого величия. Он опустел понемногу, потерял свои пригороды, ссохся в своих стенах, которые не мог больше наполнить. В середине громоздились дома сплошной глыбой, еще огромной; дальше были разбросаны только развалины жилищ, и все было погружено в оцепенелую грезу, лишь изредка прерываемую жужжанием шмеля или перезвоном колоколов.
Улицы, мощеные плоскими камнями или убитые булыжником, странно пересекались, чтобы закончиться квадратными площадями. Там были рынки. Окрестные стада сходились на них и расходились, разрозненные случайностями торга. Ярмарки и церковные службы составляли поочередно единственное занятие жителей. Город остался деревенским и набожным. Быстрый топот овец стучал по мостовой, и гулко звучали сандалии монахов. Пастухи и паства смешивались. Затхлый дух руна сливался с запахом власяниц. Воздух пахнул ладаном и крепким потом. Стриженные овцы и бритые тонзуры, пастухи и священники…
Я пришел на развилье двух дорог. Здесь струя воды стекала в источенный временем водоем. Я вспомнил этот родник. Г-н д'Амеркер хвалил свежесть его воды. Улица направо должна была вести к ограде Черных Отцов. Я направился по ней. Излучины ее вели в самое сердце города. Несколько бедных лавок раскрывали свои лотки. Четки висели рядом с плетеными кнутами. Вдруг улица расширилась. Ее преграждал высокий фасад старого особняка. Я уже видел такие же в разных местах, но этот бросался в глаза своей необычайностью.
Он подымался на цоколе очень старой кладки. Окна – высоко над землей под решетками. Должно быть, воспользовались фундаментами какого-то древнего жилища, и над ним теперешнее здание, надстроенное, вздымало свою строгую архитектуру. За углом отеля улица круто поворачивала и спускалась кривыми и крутыми лестницами. Спуск огибал заднюю часть здания и обнажал устои – бывшие стены старого укрепленного замка, гладкий каменный круп которого покоился на материке скалы.
Я узнал отель Гертелер.
Улица кончилась, показались деревья; большая аллея тополей продолжала ее. Старые каменные гробницы, пустые, стояли рядами в высокой траве, где шаги протоптали узкую тропинку. Направо тянулась стена, и в ней была низкая дверь. Я вздрогнул, увидав ее. Она вела в лечебный сад Отцов, монастырь которых выглядывал из глубины аллеи своим порталом. Прежде, чем продолжать путь, я приблизился к маленькой двери в стене. Она была массивна и обита гвоздями. Замочная скважина имела форму сердца. Подойдя к воротам, я позвонил; привратник ввел меня в монастырь. Громадные коридоры вели в обширные залы. Мы поднялись по лестницам; брат-сторож приподымал рясу. Мы не встретили никого. Часовня, в которую я не вошел, гудела монотонным пением псалмов. Мне показали несколько дворов с аркадами. Один из них был очарователен – квадратный, полный цветов, населенный голубями; они сидели по карнизам, как живой тяжелый фриз.
Оттуда была видна колокольня церкви. Часы на ней как раз били время. Большой желтый подсолнечник глядел в темную воду колодца и отражал в глубине его свой лик золотого потира.
Ничто не изменилось с того дня, как маркиз д'Амеркер посетил старый город. Неизменность внешнего вида подтверждала, что и обычаи сохранились те же. Щелканье бичей сливалось еще с дребезжанием серебряных колокольчиков, и монастырские колокола перекликались своими звонами, как в то время, когда маркиз д'Амеркер с посохом в руке, с босыми ногами в сандалиях, в монашеской рясе постучался в двери монастыря. Он спросил приора, которым был в то время Дом-Рикар. Мне показали его увенчанную митрой могилу посреди окружавших ее безымянных усыпальниц. Он сохранял могущественные связи в миру, от которого удалился, протягивая туда руку за милостыней и предоставляя ее взамен, по мере надобности, для деликатных посредничеств, за которыми обращались к его благоразумию и мудрости. Маркиз д'Амеркер объяснил ему свой костюм, причины своего прибытия и подробности возложенного на него поручения.
После двадцати лет службы на высших военных постах, один местный дворянин, г-н де Гертелер, вернулся сюда, чтобы поселиться совсем. Немного спустя, он женился на мадемуазель де Каллисти. Она была бедная девушка, хорошего рода, очень красивая. Супруги жили в отеле Гертелер. Городская знать бывала у них, и самым частым посетителем был г-н д'Эглиоль. Он приходился родственником г-ну Гертелеру, который был в молодости его начальником и очень его любил. Образ жизни в отеле Гертелер был весьма прост. Никакой роскоши, очень мало прислуги; но жизнь там получала торжественность от высоты зал, от ширины лестниц, от всей анахронической пышности старого дома.
От скуки ли пребывания в этом скудном обветшавшем городе после суеты шумной службы, благодаря ли внезапно воскресшей любви в приключениях, но через шесть лет, в один прекрасный день, г-н де Гертелер и д'Эглиоль исчезли, и никто не мог узнать куда. Проходило время. Розыски не привели ни к чему. Угадывалась какая-то тайна. Г-жа де Гертелер плакала. Ходили странные слухи, и шум мало по малу достиг двора, где еще помнили этих лиц.
Однажды разговор об этом двойном исчезновении зашел при г-не д'Амеркере, который объявил, что сможет разгадать загадку. Ему предоставили полную свободу действий, и он уехал.
Первой его заботой было надеть монашеское платье, чтобы этой одеждой обеспечить себе возможность проникать всюду, и в щели двери, и через трещины совести, и Дом-Рикар облегчил ему все способы этого расследования. Первые розыски остались безрезультатными. Облегчаемые таинственностью его костюма и видимостью его положения, они были терпеливы и разнообразны. Он изучал окрестности отеля Гертелера, разведал о привычках и ощупал жизнь его обитателей. Он вслушивался в еще животрепещущие слухи о событии. Все было напрасно. Он пожелал видеть г-жу де Гертелер. Ему ответили, что она больна, и он не смог преодолеть затворов, которыми она оградилась. Каждый день проходил он мимо отеля. Он шел по улице, которая подымается вдоль фундаментов, и останавливался против фасада. Очень часто он доходил до этого фонтана, о котором мне рассказывал. Холодная вода освежала его рот; на возвратном пути, спускаясь по ступеням, он рассматривал огромное здание из камня и скалы. Он хотел бы припасть к нему ухом и подслушать его тайну; ему казалось, что во чреве старого дома живет призрак загадки, уже близкой к забвению, ради которой он пришел чтобы потревожить ее молчание. Наконец, потерпев неудачу он уже готов был отказаться от предприятия. Он распрощался бы с Дом-Рикаром, если бы не настояния старика, который удерживал его при себе. Старый монах наслаждался обществом этой овцы, столь не похожей на стадо, которое направлял его деревянный жезл по однообразным тропам уставов.
Однажды, около пяти часов после полудня, маркиз д'Амеркер, выйдя через старые ворота, шел между высоких трав аллеи. Время дня было грустно и величаво; деревья преграждали тенями погребальную аллею, ящерицы бегали по теплым камням древних могил и скользили в их трещинах. Одной рукой маркиз д'Амеркер отряхал свое длинное монашеское одеяние, а другой держал ключ, чтобы отпереть имеющий форму сердца замок лечебного сада, в котором он любил прогуливаться. Он хотел взглянуть на него еще раз до своего отъезда еще раз подслушать, как будет скрипеть подошва его сандалий по гравию аллей, снова почувствовать, как ряса задевает о шпалеры из букса. Симметричность цветников ему нравилась; на их квадратах росли нежные травы и редкие цветы; в маленьких бассейнах цвели водяные растения. Они погружали в воду свои корни и распускались, отражаясь в ней. На скрещениях аллеи, в фаянсовых вазах, расписанных эмблемами и фармацевтическими девизами со змеями по бокам, произрастали ценные разновидности. Через стену были видны верхушки тополей; в соседних огородах, отделенных высокими зелеными трельяжами, слышен был шорох граблей, удар кирки о лейку, легкий треск садовых ножниц, срезающих побеги; здесь же все было погружено в молчание; цветок гибко склонялся под тяжестью насекомого; реяли ласточки; стрекозы задевали зеленоватую воду; мясистые змееподобные травы сплетались и расплетались в виде кадуцеев.
Маркиз д'Амеркер направлялся к двери этого странного замкнутого садика, когда увидел, что из глубины аллеи к нему идет женщина, одетая в черное; она шла медленно, как бы ощупью. Он внутренне постиг каким-то внезапным ясновидением, что эта высокая и мрачная фигура не может быть никем, кроме г-жи де Гертелер. Он замедлил шаг таким образом, чтобы встретиться с ней в тот момент, когда она остановится перед низкою дверью. Дойдя до двери, он вложил ключ в замок. Звук заставил вздрогнуть одинокую спутницу. Она колебалась. Он нагнулся, как бы стараясь отпереть. Она хотела воспользоваться мгновением и пройти мимо, но вдруг очутилась лицом к лицу с ним, так как он резко полуобернулся. Он увидел бледное и красивое лицо, изможденное бессонницами и страданием, взволнованные глаза, полураскрытый рот и руку на задыхающейся груди. Тогда он быстро вошел, оставив в прикрытой двери, в железном сердце замка ключ.
На следующий день, когда он мечтал на маленьком дворике с аркадами, его известили, что женщина под вуалью хочет с ним говорить. Она пришла. Он узнал г-жу де Гертелер и усадил ее на каменную скамью. Голуби тихо ворковали по капителям пустынных галерей; воркование их смешивалось co вздохами, вздымавшими грудь кающейся; он осенил ее, коленопреклоненную, широким крестным знамением и, склонив голову, руки спрятав в рукава, слушал скорбную исповедь.
Это была страшная и трагическая история. Зачем было рассказывать ее? Но тайна казалась ей разоблаченной. Этот монах, отмыкающий ключом замок в форме сердца, показался ей насильственно растворяющим путь к ее совести. Она увидела в этой встрече указание судьбы и в жесте – таинственный намек, а также и символ, ниспосланный освободить ее душу, заточенную в ужасе молчания.
Брак ее с г-ном де Гертелер не был браком по любви. Она уважала его, но боялась его гордого характера, суровость которого пугала ее доверчивость и приводила в отчаяние ее нежность. Минули годы.
Одной зимой г-н д'Эглиоль появился в их доме и вошел в ее интимную жизнь. Он был красив и еще молод. Она отдалась ему: это были дни радости и ужаса прожитые в страхе быть открытыми и в томлении угрызений совести. Г-н де Гертелер не замечал ничего. Как и обыкновенно, он часто бывал в отсутствии; он только постарел, и широкая морщина прибавилась еще к тем, что уже бороздили его лоб.
Однажды вечером г-жа де Гертелер удалилась в свою комнату около полуночи. Она чувствовала себя печальной. Г-н Эглиоль не появлялся в течение суток, а он никогда не пропускал ни одного дня. Г-н де Гертелер уехал верхом с утра, несмотря на то, что шел дождь. В то время, когда она причесывала волосы перед зеркалом, она увидела, как дверь отворилась, и вошел ее муж. Он был в высоких сапогах, но на них не было никаких следов грязи; платье его казалось пыльным, длинная паутина свисала с его локтя, и он держал в руке ключ. Ничего не говоря, он направился прямо к стене комнаты, где на гвозде висело распятие из слоновой кости, сорвал его, разбил о пол и на место его повесил тяжелый заржавленный ключ. Лицо его было гневно и бледно. Г-жа де Гертелер застыла на одно мгновение, не понимая; после, вдруг, поднеся руки к сердцу, вскрикнула и упала навзничь.
Когда она пришла в себя, страшное событие стало ей понятно. Ее муж заманил г-на д'Эглиоль в какую-нибудь западню. Старое обиталище, построенное на фундаменте крепости, таило в своих глубинах невидимые убежища и вечные тайники. Крик, ее собственный крик, звенел еще в ее ушах, но он, казалось, шел снизу, заглушенный грудами камня, пронзая своды, высившиеся один над другим, доходя до нее из тех уст, от которых навсегда отделила ее толща стен. Она хотела выйти. Дверь не поддавалась. Затворы замыкали окно: слуги жили далеко.
На другой день г-н де Гертелер принес ей пищу. Каждый день он возвращался. Паутина все висела на рукаве его пыльной одежды, сапоги стучали по плитам, большая морщина на лбу врезывалась в ледность пыток и бессонниц. Каждый раз он выходил молча и на слезы и на мольбы отвечал лишь кратким жестом, указывая на ключ, висевший на стене.
То были трагические дни, которые несчастная прожила, устремляя глаза на ужасное ex voto, которое все росло и становилось огромным. Ржавчина казалась ей красной от крови. Она чувствовала, как кровь сочилась в уединении ее отчаяния. Дом будто вымер. Вечером послышались шаги, и г-н де Гертелер вошел еще раз, неся лампу и корзину. Волосы его поседели, он даже не поглядел на несчастную, которая ползала у него в ногах, но не переставал с жадностью созерцать грозный ключ.
Тогда г-жа де Гертелер поняла алчное желание, снедавшее ее мужа, жгучую жажду, томившую его: увидеть труп своего соперника, убедиться в своей мести, ощупать ту гниль, которою стала плоть возлюбленного; словом – взять ключ, что он пригвоздил к стене, заменив знак прощения, образ которого из слоновой кости он разбил, знаком вечного злопамятства, который он повесил, как незыблемую бронзовую эмблему. Но увы, мщение неутолимо; оно навсегда остается желанием; в нем и жестокость, и муки; оно постоянно возвращается к той же тревоге, до самого конца жизни, до самого дна памяти.
Г-н де Гертелер почувствовал, что разгаданы его одинокие пытки, и страдал еще больше. На черном мраморе его гордости были кровавые борозды.