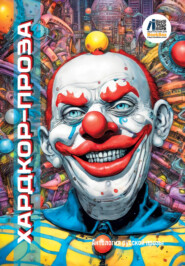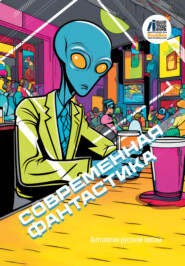По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стебель травы. Антология переводов поэзии и прозы
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дырявый мостик. Дождь идет лениво.
Смеркается, хотя еще не вечер.
Рыбак в плаще стоит, слегка растерян.
Из-за реки звон колокола слышен.
Так тихо, грустно. Осень наступает.
Качнулся стебель водяного риса.
Песочный гусь проплыл неторопливо.
Вода прозрачна… Осень наступает.
Перевод Р. Заславского
Из итальянской поэзии
Винченцо Кардарелли
Венецианская осень
Холодное и сырое, на меня надвигается
дыханье осенней Венеции.
Теперь, когда лето
с его испариной и сирокко,
словно по волшебству, прошло,
жесткая сентябрьская луна
предвещая дурное,
освещает город из воды и камня,
что открывает свой лик медузы,
гибельно и заразно.
Мертвенна тишина затхлых каналов
под водянистой луной,
кажется, в каждом из них
покоится труп Офелии:
могилы, усыпанные разложившимися цветами
и прочей растительной гнилью,
где под плеск воды проплывает мимо
призрак гондольера.
О венецианские ночи —
без петушиного крика,
без шума фонтанов,
мрачные ночи в лагуне,
ничей нежный шепот не оживляет их,
зловещие завистливые дома,
отвесно стоящие над каналами,
спящие бездыханно,
сейчас, как никогда,
тяжесть ваша на сердце моем.
Нет здесь ни порывистых погребальных ветров,
как в сентябре в горах,
ни запаха срезанной виноградной лозы,
ни купаний заплаканных ливней,
ни шелеста листопада.
Пучок травы, желтеющий и умирающий
на подоконнике —
вот и вся венецианская осень.
Так, в Венеции, времена года бредят.
Вдоль ее площадей и каналов —
одни растерянные огни,
огни, грезящие о доброй земле,
душистой и плодородной.
Только зимнее кораблекрушение подобает
этому городу – не живущему,
не цветущему, —
если только он не корабль в глубине моря.
Перевод с итальянского Г. Киршбаума
Из немецкой прозы
Уве Копф
Алая буква
«Считай, что тебя трахнули». Этот сутенерский жаргон я слышу в Бамберге, в маленьком городе Верхней Франконии, от каждого здания которого веет поздним романтизмом и ранней готикой. Знатоки утверждают, что Бамберг – самый красивый город во всей Германии. Весной в особенности эта красота просто невыносима. Стало быть, последнюю весну уходящего тысячелетия я провожу в Бамберге, куда в свое время, тоже весной, сбежал поэт Томас Бернхард, которого я взял себе за образец во всем, что касается ненависти и повторяемости, он родился 9 февраля и умер 11 февраля, а мой день рожденья 10 февраля, точно как у Бертольта Брехта, это что-то да значит. Хотелось бы только знать, что именно. И вот я сижу в трактире на Лангенштрасе, в Бамберге, и вспоминаю, что эту фразу – «Считай, что тебя трахнули» – я последний раз слышал лет этак двадцать тому – фраза была модной среди людей, которые любили друг друга подогревать сексуально, особенно при свидетелях; я был уверен, что фраза давно отмерла – так же, как тип мужчин, которые использовали ее в своей речи, но вот там сидит этот тип, пьет пиво и говорит женщине за соседним столиком: «Считай, что тебя трахнули». Он похож на киноактера Хайнера Лаутербаха, в какой-то момент я даже подумал, что это он и есть, но нет, скорее, это просто поразительное сходство. Лаутербах мне стал уже сниться по ночам – так сильно я его презираю за все, что он делает и говорит со всей этой его так называемой «мужественностью».
Как раз прошлой ночью, в поезде, который вез меня из Гамбурга через Вюрцбург в Бамберг, мне снова приснился Лаутербах, и what a dream it was: Лаутербах был преступником, но не в кино, а в действительности: полиция и все население преследует Лаутербаха, газета «Бильд» на первой своей полосе повествует о злодеяниях Лаутербаха – тот крадет женские трусики в прачечных, натягивает их дома поверх своего трико, потом относит обратно, и дамы, надевая их, обнаруживают, что трусики почему-то стали велики. Специальный агент израильской разведки «Моссад» должен взять след Лаутербаха в лесу, агент – еврей, переодетый в Ясира Арафата, при этом еврей этот и сам преступник, у которого в рюкзаке лежит бутылка очень дорогого красного вина, – он украл ее из винного погреба ведущего телевизионной программы «Темы дня» Ульриха Виккерта – и вот так бредет еврей по лесу и вдруг видит на одной полянке людей, играющих в квача, выбегает полуголая женщина, ее трусики болтаются на бедрах, эхо доносит из леса знаменитый смех Лаутербаха, и когда женщина приближается к агенту Моссада, тот с ужасом замечает, что у нее лицо Йозефа Геббельса. В этот момент из кустов выбегают трое мужчин, это актеры Марио Адорф, Хайнц Рюман и Гетц Георг, они хватают Лаутербаха, бросают его на землю, срывают с его тела всю одежду и поют, показывая на него пальцами: «Нет пениса меньше, чем у Хайнера, об этом знает мама Баймера!», и так как это правда, Лаутербах тут же сходит с ума от стыда.
Сон не имеет никакой структуры, и вряд ли вообще что-то значит, но конец мне все же понравился, потому что я ненавижу Лаутербаха. После того, как двойник Лаутербаха, сидящий в Бамбергском трактире, сделал этот знак внимания женщине за соседним столиком, он берет себе еще одну кружку пива и какое-то мясное блюдо и режет кнедель ножом на маленькие кусочки… нельзя же так делать, за это я бы тоже дал ему пощечину, но не даю, – мужчина выглядит так, как будто на пощечину ответит нокаутирующим ударом.
Женщина, которой он сказал «Считай, что тебя трахнули», никак на это не реагирует, она продолжает пить яблочный сок, курит сигареты без фильтра и смотрит в пустоту. Ей, наверно, лет тридцать, чернота ее глаз вызывает шок, но Лаутербах сказал ей «Считай, что тебя трахнули», скорее всего, потому, что она крашеная блондинка, – мужчине наподобие Лаутербаха это само по себе должно казаться чем-то блядским.
Женщина склонна к полноте и слишком тепло одета, – сейчас конец марта, но здесь, в Бамберге, почти 20 градусов тепла, а на ней пальто, плотные джинсы, вокруг шеи – шарф, и на пальто слева, примерно на уровне сердца, вышита алая буква «А».
Такую букву «А» должна была носить на своей одежде Эстер Принн. Эстер – героиня романа Натаниеля Готорна «Алая буква», действие которого происходит в XVII веке в пуританской Новой Англии, и ярко-красная буква «А» означает «адюльтер», супружескую измену – Эстер родила ребенка не от своего мужа, и она отказывается называть подлинного отца. Женщина в Бамбергском трактире носит эту букву, как Эстер Принн, но при этом (во всяком случае, так кажется с первого взгляда) у нее нет гордости Эстер, ее силы и ее страсти – женщина кажется полной развалиной, несмотря на то, что она здорова. Вот она встает, кладет на стол пару монет, как бы между прочим трогает алую букву «А» на своем пальто и выходит из трактира, а Лаутербах, пережевывая мясо, смотрит ей вслед так, будто хочет сказать: «Уходишь, куколка, но мы еще встретимся, а впрочем – считай, что тебя трахнули!»
С меня довольно, такое чувство, что я задыхаюсь от характерного запаха, который распространяет вокруг себя Лаутербах, я плачу официанту за стойкой, и хотя я ни о чем его не спрашиваю, он говорит мне, что женщина с буквой – с приветом, хотя, впрочем, она никому ничего плохого не делает, только сидит тут все время и пьет яблочный сок, и никто не знает, что означает эта буква у нее на пальто. Некоторые мужчины (официант делает кивок в сторону Лаутербаха) предполагают, что у женщины СПИД, и она поэтому свихнулась и повесила эту букву «А» («Aids»), но ни один житель Бамберга не видел ее никогда с мужчиной, собственно, вообще с каким-то другим человеком – она живет уже очень давно в Бамберге, в полном одиночестве, в пансионе который находится в другой части города. Чаще всего она ошивается в «Хижине ведьмы», это такой кабачок на Нюрнбергштрассе.
Так как мне самому нужно найти себе какой-нибудь пансион, я принимаю решение пойти на Нюрнбергштрассе. В центре города, где находится Лангенштрассе, я не могу оставаться: студенты, повсюду студенты и студенческие кафе и бары, и магазины, в которых студенты покупают свою еду, свои книги и одежду, а Нюрнбергштрассе находится в мелкобуржуазном районе, куда студенты не ходят – поэтому туда иду я. Студенты завладели Бамбергом точно так же, как гомосексуалисты завладели Сан-Франциско, только район вокруг Нюрнбергштрассе свободен от студентов, и красоту Бамберга можно оценить только после двух часов ночи, когда закрываются все студенческие бары и студенты исчезают в своих комнатах, чтобы немного отдохнуть от своей студенческой жизни.
Кристоф Шлингензиф, режиссер и мастер перфоманса, заехал на два дня в город и собрал сегодня утром так же много студентов вокруг себя на Марктплац, как незадолго перед ним народный актер Гюнтер Штрак, который снимает в Бамберге криминальный сериал «Король» и взял сотни студентов в статисты. Но Шлингензиф обворожил бамбергских студентов своими докладами о том, как нужно изменить государственное устройство, – там, на площади, он раздавал открытки с изображением себя обнаженного, студенты их расхватали, потому что от Шлингензифа отдает улицей, андеграундом и революцией.
Студенты не видят, что Шлингензиф их презирает, и чтобы никто его с ними не спутал, скрывает свою яйцеголовость пышной прической и докладывает студентам об успехах и целях своей партии «Последний шанс», и студенты рукоплещут Шлингензифу, он для них спаситель, соединивший в своих чертах все лучшее от Джона Леннона и Хельге Шнайдер, от Иисуса Христа и Че Гевары. Он хочет поставить спектакль, в котором будут задействованы шесть миллионов безработных Германии, спектакль (как всегда у Шлингензифа) о крови, половых органах и о кукольных фашистах. Студенты Бамберга верят, что Шлингензиф силой и серьезностью всей этой бредятины может привести Германию к обновлению.
После своего выступления Шлингензиф сообщает, что он теперь направляется к Бамбергскому собору – чтобы вымазать спермой знаменитую скульптуру Бамбергского всадника. Тут же появляется полиция и арестовывает Шлингензифа за богохульство, а студенты разбредаются по домам – они достаточно трусливы, чтобы защищать своего любимого Шлингензифа от произвола полиции.
После этого перфоманса я оказался в трактире на Лангенштрасе, и там Лаутербах сказал женщине с красной буквой: «Считай, что тебя трахнули», и теперь, когда я гуляю по набережной Прегница, залитой вечерним солнцем, мне кажется, что у Лаутербаха есть какая-то тяга, ностальгия по смерти, потому что он трактовал букву «А» на пальто этой женщины как «Aids», и если Лаутербах говорит больной СПИДом: «Считай, что тебя трахнули», то это в высшей степени странно, нет?
Я прохожу по мосту к зданию Бамбергского суда, – здесь пять лет назад состоялся процесс против родителей, которые убили своего ребенка и выбросили его на мусорку. И вот уже я в «Хижине ведьмы» на Нюрнбергштрассе, заказываю две кружки пива Maisel Pilz, и когда мне их приносят, я выпиваю одну кружку залпом и заказываю третью, а уже после этого пью вторую, намного медленнее, чем первую, но только так (заказав две кружки, опрокинув одну, – и тут же заказав третью, и задумчиво попивая вторую), только так может небаварец снискать уважение баварцев.
Справа в углу сидит женщина с красной буквой, пьет сок, курит, смотрит в пустоту, через две минуты женщина снова уходит, а я спрашиваю у официантки, где находится ближайший пансион. Она советует мне «Красный конь» – он в двухстах метров, напротив мебельного магазина, и когда я регистрируюсь у портье «Красного коня», снимаю номер – для начала на три недели, – я вижу в буфете пансиона женщину с красной буквой, она ест бутерброд с вареной баварской колбасой, смотрит на меня, – эта женщина-руина вселяет в меня ужас, я не выдерживаю ее взгляда и секунды, и в своем номере на третьем этаже я ложусь на кровать и пытаюсь отвлечься от этой женщины, для чего я мобилизую все свое ожесточение, всю свою злобу на всех женщин без исключения, потому что женщины плохие, это точно, по крайней мере, со мной они ведут себя плохо, я пробовал все это с несколькими женщинами, с одной это было здесь, в Бамберге. Трагедия заключается в том, что женщины всегда стремятся меня уничтожить, хотя я принадлежу к так называемому типу «любимцев женщин», но не такому, как Хайнер Лаутербах – я похож на Марлона Брандо в той его фазе, когда он танцует последнее танго в Париже, и так же, как Брандо, я притягиваю женщин своей меланхоличностью и инфернальностью, а потом они снова убегают от меня, потому что чувствуют себя отравленными, – вот так я это объясняю.
Я лежу, чуть не плача, на кровати Бамбергского отеля «Красный конь» и вдруг слышу голос, он доносится из комнаты подо мной, – невозможно сказать, на каком языке говорят, точно так же, как нельзя сказать, мужчина это говорит, женщина, или ребенок. Кажется, что там кто-то стонет, что-то требует, без злобы и без нажима, и когда я концентрирую внимание на этом голосе, он умолкает, – я слышу только поскрипывание деревянных половиц, а потом ничего не слышу, засыпаю, но в полтретьего ночи голос снова возвращается, это женский голос, и требования теперь кажутся какой-то мольбой, но ничего сексуального в комнате подо мной не разыгрывается, голос охает и дрожит, как в лихорадке, и в какой-то момент я почти уверен, что слышу слово «ужас» и слово «любовь».
Смеркается, хотя еще не вечер.
Рыбак в плаще стоит, слегка растерян.
Из-за реки звон колокола слышен.
Так тихо, грустно. Осень наступает.
Качнулся стебель водяного риса.
Песочный гусь проплыл неторопливо.
Вода прозрачна… Осень наступает.
Перевод Р. Заславского
Из итальянской поэзии
Винченцо Кардарелли
Венецианская осень
Холодное и сырое, на меня надвигается
дыханье осенней Венеции.
Теперь, когда лето
с его испариной и сирокко,
словно по волшебству, прошло,
жесткая сентябрьская луна
предвещая дурное,
освещает город из воды и камня,
что открывает свой лик медузы,
гибельно и заразно.
Мертвенна тишина затхлых каналов
под водянистой луной,
кажется, в каждом из них
покоится труп Офелии:
могилы, усыпанные разложившимися цветами
и прочей растительной гнилью,
где под плеск воды проплывает мимо
призрак гондольера.
О венецианские ночи —
без петушиного крика,
без шума фонтанов,
мрачные ночи в лагуне,
ничей нежный шепот не оживляет их,
зловещие завистливые дома,
отвесно стоящие над каналами,
спящие бездыханно,
сейчас, как никогда,
тяжесть ваша на сердце моем.
Нет здесь ни порывистых погребальных ветров,
как в сентябре в горах,
ни запаха срезанной виноградной лозы,
ни купаний заплаканных ливней,
ни шелеста листопада.
Пучок травы, желтеющий и умирающий
на подоконнике —
вот и вся венецианская осень.
Так, в Венеции, времена года бредят.
Вдоль ее площадей и каналов —
одни растерянные огни,
огни, грезящие о доброй земле,
душистой и плодородной.
Только зимнее кораблекрушение подобает
этому городу – не живущему,
не цветущему, —
если только он не корабль в глубине моря.
Перевод с итальянского Г. Киршбаума
Из немецкой прозы
Уве Копф
Алая буква
«Считай, что тебя трахнули». Этот сутенерский жаргон я слышу в Бамберге, в маленьком городе Верхней Франконии, от каждого здания которого веет поздним романтизмом и ранней готикой. Знатоки утверждают, что Бамберг – самый красивый город во всей Германии. Весной в особенности эта красота просто невыносима. Стало быть, последнюю весну уходящего тысячелетия я провожу в Бамберге, куда в свое время, тоже весной, сбежал поэт Томас Бернхард, которого я взял себе за образец во всем, что касается ненависти и повторяемости, он родился 9 февраля и умер 11 февраля, а мой день рожденья 10 февраля, точно как у Бертольта Брехта, это что-то да значит. Хотелось бы только знать, что именно. И вот я сижу в трактире на Лангенштрасе, в Бамберге, и вспоминаю, что эту фразу – «Считай, что тебя трахнули» – я последний раз слышал лет этак двадцать тому – фраза была модной среди людей, которые любили друг друга подогревать сексуально, особенно при свидетелях; я был уверен, что фраза давно отмерла – так же, как тип мужчин, которые использовали ее в своей речи, но вот там сидит этот тип, пьет пиво и говорит женщине за соседним столиком: «Считай, что тебя трахнули». Он похож на киноактера Хайнера Лаутербаха, в какой-то момент я даже подумал, что это он и есть, но нет, скорее, это просто поразительное сходство. Лаутербах мне стал уже сниться по ночам – так сильно я его презираю за все, что он делает и говорит со всей этой его так называемой «мужественностью».
Как раз прошлой ночью, в поезде, который вез меня из Гамбурга через Вюрцбург в Бамберг, мне снова приснился Лаутербах, и what a dream it was: Лаутербах был преступником, но не в кино, а в действительности: полиция и все население преследует Лаутербаха, газета «Бильд» на первой своей полосе повествует о злодеяниях Лаутербаха – тот крадет женские трусики в прачечных, натягивает их дома поверх своего трико, потом относит обратно, и дамы, надевая их, обнаруживают, что трусики почему-то стали велики. Специальный агент израильской разведки «Моссад» должен взять след Лаутербаха в лесу, агент – еврей, переодетый в Ясира Арафата, при этом еврей этот и сам преступник, у которого в рюкзаке лежит бутылка очень дорогого красного вина, – он украл ее из винного погреба ведущего телевизионной программы «Темы дня» Ульриха Виккерта – и вот так бредет еврей по лесу и вдруг видит на одной полянке людей, играющих в квача, выбегает полуголая женщина, ее трусики болтаются на бедрах, эхо доносит из леса знаменитый смех Лаутербаха, и когда женщина приближается к агенту Моссада, тот с ужасом замечает, что у нее лицо Йозефа Геббельса. В этот момент из кустов выбегают трое мужчин, это актеры Марио Адорф, Хайнц Рюман и Гетц Георг, они хватают Лаутербаха, бросают его на землю, срывают с его тела всю одежду и поют, показывая на него пальцами: «Нет пениса меньше, чем у Хайнера, об этом знает мама Баймера!», и так как это правда, Лаутербах тут же сходит с ума от стыда.
Сон не имеет никакой структуры, и вряд ли вообще что-то значит, но конец мне все же понравился, потому что я ненавижу Лаутербаха. После того, как двойник Лаутербаха, сидящий в Бамбергском трактире, сделал этот знак внимания женщине за соседним столиком, он берет себе еще одну кружку пива и какое-то мясное блюдо и режет кнедель ножом на маленькие кусочки… нельзя же так делать, за это я бы тоже дал ему пощечину, но не даю, – мужчина выглядит так, как будто на пощечину ответит нокаутирующим ударом.
Женщина, которой он сказал «Считай, что тебя трахнули», никак на это не реагирует, она продолжает пить яблочный сок, курит сигареты без фильтра и смотрит в пустоту. Ей, наверно, лет тридцать, чернота ее глаз вызывает шок, но Лаутербах сказал ей «Считай, что тебя трахнули», скорее всего, потому, что она крашеная блондинка, – мужчине наподобие Лаутербаха это само по себе должно казаться чем-то блядским.
Женщина склонна к полноте и слишком тепло одета, – сейчас конец марта, но здесь, в Бамберге, почти 20 градусов тепла, а на ней пальто, плотные джинсы, вокруг шеи – шарф, и на пальто слева, примерно на уровне сердца, вышита алая буква «А».
Такую букву «А» должна была носить на своей одежде Эстер Принн. Эстер – героиня романа Натаниеля Готорна «Алая буква», действие которого происходит в XVII веке в пуританской Новой Англии, и ярко-красная буква «А» означает «адюльтер», супружескую измену – Эстер родила ребенка не от своего мужа, и она отказывается называть подлинного отца. Женщина в Бамбергском трактире носит эту букву, как Эстер Принн, но при этом (во всяком случае, так кажется с первого взгляда) у нее нет гордости Эстер, ее силы и ее страсти – женщина кажется полной развалиной, несмотря на то, что она здорова. Вот она встает, кладет на стол пару монет, как бы между прочим трогает алую букву «А» на своем пальто и выходит из трактира, а Лаутербах, пережевывая мясо, смотрит ей вслед так, будто хочет сказать: «Уходишь, куколка, но мы еще встретимся, а впрочем – считай, что тебя трахнули!»
С меня довольно, такое чувство, что я задыхаюсь от характерного запаха, который распространяет вокруг себя Лаутербах, я плачу официанту за стойкой, и хотя я ни о чем его не спрашиваю, он говорит мне, что женщина с буквой – с приветом, хотя, впрочем, она никому ничего плохого не делает, только сидит тут все время и пьет яблочный сок, и никто не знает, что означает эта буква у нее на пальто. Некоторые мужчины (официант делает кивок в сторону Лаутербаха) предполагают, что у женщины СПИД, и она поэтому свихнулась и повесила эту букву «А» («Aids»), но ни один житель Бамберга не видел ее никогда с мужчиной, собственно, вообще с каким-то другим человеком – она живет уже очень давно в Бамберге, в полном одиночестве, в пансионе который находится в другой части города. Чаще всего она ошивается в «Хижине ведьмы», это такой кабачок на Нюрнбергштрассе.
Так как мне самому нужно найти себе какой-нибудь пансион, я принимаю решение пойти на Нюрнбергштрассе. В центре города, где находится Лангенштрассе, я не могу оставаться: студенты, повсюду студенты и студенческие кафе и бары, и магазины, в которых студенты покупают свою еду, свои книги и одежду, а Нюрнбергштрассе находится в мелкобуржуазном районе, куда студенты не ходят – поэтому туда иду я. Студенты завладели Бамбергом точно так же, как гомосексуалисты завладели Сан-Франциско, только район вокруг Нюрнбергштрассе свободен от студентов, и красоту Бамберга можно оценить только после двух часов ночи, когда закрываются все студенческие бары и студенты исчезают в своих комнатах, чтобы немного отдохнуть от своей студенческой жизни.
Кристоф Шлингензиф, режиссер и мастер перфоманса, заехал на два дня в город и собрал сегодня утром так же много студентов вокруг себя на Марктплац, как незадолго перед ним народный актер Гюнтер Штрак, который снимает в Бамберге криминальный сериал «Король» и взял сотни студентов в статисты. Но Шлингензиф обворожил бамбергских студентов своими докладами о том, как нужно изменить государственное устройство, – там, на площади, он раздавал открытки с изображением себя обнаженного, студенты их расхватали, потому что от Шлингензифа отдает улицей, андеграундом и революцией.
Студенты не видят, что Шлингензиф их презирает, и чтобы никто его с ними не спутал, скрывает свою яйцеголовость пышной прической и докладывает студентам об успехах и целях своей партии «Последний шанс», и студенты рукоплещут Шлингензифу, он для них спаситель, соединивший в своих чертах все лучшее от Джона Леннона и Хельге Шнайдер, от Иисуса Христа и Че Гевары. Он хочет поставить спектакль, в котором будут задействованы шесть миллионов безработных Германии, спектакль (как всегда у Шлингензифа) о крови, половых органах и о кукольных фашистах. Студенты Бамберга верят, что Шлингензиф силой и серьезностью всей этой бредятины может привести Германию к обновлению.
После своего выступления Шлингензиф сообщает, что он теперь направляется к Бамбергскому собору – чтобы вымазать спермой знаменитую скульптуру Бамбергского всадника. Тут же появляется полиция и арестовывает Шлингензифа за богохульство, а студенты разбредаются по домам – они достаточно трусливы, чтобы защищать своего любимого Шлингензифа от произвола полиции.
После этого перфоманса я оказался в трактире на Лангенштрасе, и там Лаутербах сказал женщине с красной буквой: «Считай, что тебя трахнули», и теперь, когда я гуляю по набережной Прегница, залитой вечерним солнцем, мне кажется, что у Лаутербаха есть какая-то тяга, ностальгия по смерти, потому что он трактовал букву «А» на пальто этой женщины как «Aids», и если Лаутербах говорит больной СПИДом: «Считай, что тебя трахнули», то это в высшей степени странно, нет?
Я прохожу по мосту к зданию Бамбергского суда, – здесь пять лет назад состоялся процесс против родителей, которые убили своего ребенка и выбросили его на мусорку. И вот уже я в «Хижине ведьмы» на Нюрнбергштрассе, заказываю две кружки пива Maisel Pilz, и когда мне их приносят, я выпиваю одну кружку залпом и заказываю третью, а уже после этого пью вторую, намного медленнее, чем первую, но только так (заказав две кружки, опрокинув одну, – и тут же заказав третью, и задумчиво попивая вторую), только так может небаварец снискать уважение баварцев.
Справа в углу сидит женщина с красной буквой, пьет сок, курит, смотрит в пустоту, через две минуты женщина снова уходит, а я спрашиваю у официантки, где находится ближайший пансион. Она советует мне «Красный конь» – он в двухстах метров, напротив мебельного магазина, и когда я регистрируюсь у портье «Красного коня», снимаю номер – для начала на три недели, – я вижу в буфете пансиона женщину с красной буквой, она ест бутерброд с вареной баварской колбасой, смотрит на меня, – эта женщина-руина вселяет в меня ужас, я не выдерживаю ее взгляда и секунды, и в своем номере на третьем этаже я ложусь на кровать и пытаюсь отвлечься от этой женщины, для чего я мобилизую все свое ожесточение, всю свою злобу на всех женщин без исключения, потому что женщины плохие, это точно, по крайней мере, со мной они ведут себя плохо, я пробовал все это с несколькими женщинами, с одной это было здесь, в Бамберге. Трагедия заключается в том, что женщины всегда стремятся меня уничтожить, хотя я принадлежу к так называемому типу «любимцев женщин», но не такому, как Хайнер Лаутербах – я похож на Марлона Брандо в той его фазе, когда он танцует последнее танго в Париже, и так же, как Брандо, я притягиваю женщин своей меланхоличностью и инфернальностью, а потом они снова убегают от меня, потому что чувствуют себя отравленными, – вот так я это объясняю.
Я лежу, чуть не плача, на кровати Бамбергского отеля «Красный конь» и вдруг слышу голос, он доносится из комнаты подо мной, – невозможно сказать, на каком языке говорят, точно так же, как нельзя сказать, мужчина это говорит, женщина, или ребенок. Кажется, что там кто-то стонет, что-то требует, без злобы и без нажима, и когда я концентрирую внимание на этом голосе, он умолкает, – я слышу только поскрипывание деревянных половиц, а потом ничего не слышу, засыпаю, но в полтретьего ночи голос снова возвращается, это женский голос, и требования теперь кажутся какой-то мольбой, но ничего сексуального в комнате подо мной не разыгрывается, голос охает и дрожит, как в лихорадке, и в какой-то момент я почти уверен, что слышу слово «ужас» и слово «любовь».