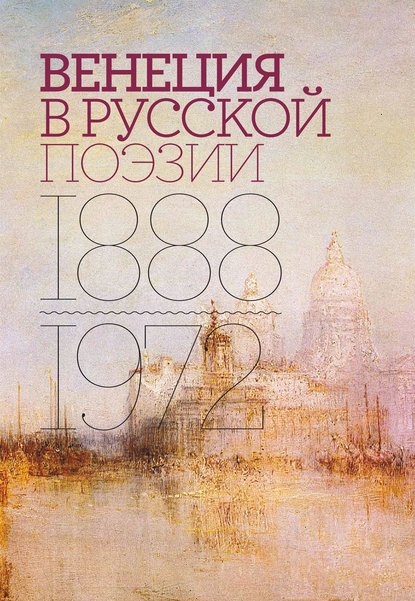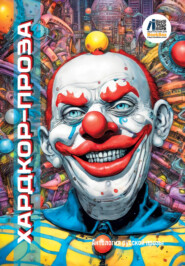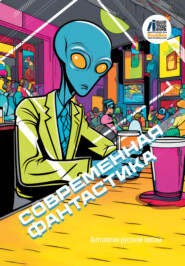По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Туристы со всех концов земного шара стекаются в этот город-музей; здесь все то же – башня Часов, на которой гиганты выбивают свои часы, мрачный Мост Вздохов, ширь Большого канала и тухлая тишина узких водных уличек.
Но из суеты деловой жизни приезжают сюда «американские дядюшки», чтобы вдохнуть непонятный им аромат минувших веков.
Надо, однако, сказать: прежнего столь известного навязчивого приставания разных гидов, проводников, попрошайничества под разными соусами – больше нет. Туриста не пугают. Турист заметно обмельчал. Всюду такса, распорядок, твердые цены и десять процентов какого-то налога.
И магазины цены запрашивают божеские.
Однако, подальше от центра не считаются с новыми порядками и берут с иностранца, смотря по акценту. Наибольший почет, конечно, американцу, обладателю его величества полновесного доллара.
И самодовольно поглядывают приезжие американцы, ни бельмеса не смыслящие в искусстве, поглядывают на Паоло Веронезе, разрисовавшего потолки Дворца Дожей, и спрашивают:
– А скажите, пожалуйста, почему здесь так дует?[495 - Дымов О. Венеция // Прожектор. 1928. № 34. С. 17.]
35
Осенью 1927 года в большое путешествие по Италии отправился Н. Асеев. Его путевые заметки, составившие книгу «Разгримированная красавица», очевидным образом сконструированы как реплика в диалоге с предшествующей традицией травелогов – не случайно целая глава, озаглавленная «Споры с Муратовым», посвящена советской ревизии классических русских взглядов на предмет. Соответственно выстроен и широкий зачин повествования, хотя рукотворные трудности, которые приходится преодолевать путешественнику в новую эпоху, описаны на всякий случай довольно скупо:
Первые впечатления начинаются с той минуты, как, окончив хлопоты с паспортом и визами и получив чек на Берлин или Рим, выйдешь с Неглинного на Кузнецкий. <…> Билеты Дерутры вытесняют, выталкивают тебя из привычной жизни, из каждодневной, деловой обычной спешки, сознание скорого отъезда выносит тебя из обычного состояния, как пробковый пояс из воды[496 - Асеев Н. Разгримированная красавица. Путевые записки. М., <1928>. С. 5.].
В этой части пути бытовых подробностей довольно мало, но те, что есть, весьма любопытны: автор упоминает «широкобокий пульмановский вагон» – то есть хорошо знакомый читателю шедевр Общества спальных вагонов и скорых поездов, национализированный государством; в наследство от бывшего владельца остался и уровень сервиса: «Объявление на трех языках, форма проводников, теплая вода в уборной, все говорит о подтянутости, о желании не ударить лицом в грязь перед отбывающими за рубеж пассажирами»[497 - Там же. С. 6.]. В соседних купе едет английская делегация, возвращающаяся с торжеств, посвященных юбилею революции, и советская компания на конференцию в Женеву – А. И. Угаров, А. Ф. Горкин и Б. Е. Штейн (у первого годы жизни ожидаемо замыкаются 1939?м, двое остальных уцелели). Подробно описано пересечение советско-польской границы и обмен валюты в Негорелом:
На таможне, кроме военного блеска, виден уже и штатский шик: кассир в будке международных спальных вагонов настолько толст, настолько франтовски одет и настолько величав, что прямо язык не поворачивается сказать ему, что он ошибся в сдаче, меняя английские фунты на польские злоты. Шикарный кассир тут же явно откладывает себе в жилетный карман и на галстук, и на туфли, и на вежеталь, обильно лоснящийся на его ослепительном проборе. Но ведь это «уже Европа» и жаловаться некогда, да и некому[498 - Асеев Н. Разгримированная красавица. Путевые записки. С. 15.].
Тот же обидчивый фатализм звучит и при описании неурядиц с варшавскими отелями:
Отношение к русским нагловатое. Вас меряют взглядом, разводят руками и с удовольствием сообщают, что комнат свободных нет. И тут же на ваших глазах, раскланиваясь перед внушительным немцем, записывают его, предлагая комнату на выбор. Мы объездили пять гостиниц типа отель «Полонья» и отель «Еуроп», и нигде для нас не нашлось места. Не знаю, – может быть, и действительно они были так переполнены, но у меня создалось впечатление, что наш с женой русский разговор имел в глазах портье очень невыгодную для нас цену[499 - Там же. С. 21.].
На следующий день в половине второго ночи Асеев и его спутница сели в поезд до Вены, без труда выдержали пограничные формальности («на австрийской границе таможенные чиновники тихи и унылы») – и уже с утра, в ожидании римского поезда, коротали время в беседах с лучшими представителями местного передового класса: «Но стоит вам дать понять, что вы русский, что у вас советский паспорт, что едете вы как полноправный гражданин и – резкие складки суровости и нужды разглаживаются в неожиданно приветливую улыбку <…>»[500 - Там же. С. 25.].
Дальше их ждал круговой маршрут – через Рим и Неаполь в Сорренто, где они долгое время гостили у Горького, ведя с ним нескончаемые (но тщательно фиксируемые) разговоры. Затем обратный путь – Рим, Флоренция и наконец Венеция, где они оказались в последних числах декабря, рапортуя недавнему гостеприимному хозяину: «Сидим в Венеции, очарованные ее неправдоподобной кружевной красотой. Езжу на водяном трамвае и на водяном такси по каналам и не могу насмотреться. Богатый город! И совершенно потрясает отсутствие шума»[501 - Письмо к М. Горькому от 28 декабря 1927 г. // Асеев Н. Родословная поэзии. М., 1990. С. 389.].
В отличие от большинства других наших респондентов супруги Асеевы пошли от вокзала пешком – но все равно две страницы спустя внутренняя логика сюжета вывела на классический маршрут:
Вокзальное крыльцо опускается прямо в воду. К нему подкатывают древние водяные «ваньки» – гондольеры: высоко поднятые корма и нос, длинные очертания, темный цвет окраски и фигура на корме, наваливающаяся, стоя, на длинное, в бок отставленное весло – вот характерный вид венецианского «извозчика». Автомобилям соответствуют моторные гондолы-такси. Они чище и щеголеватее, у них есть застекленная кабинка на 4–6 человек. Собственные моторные и весельные гондолы также повторяют эти два типа городских экипажей, но кроме этого есть еще и водяной трамвай. За восемь копеек вы можете проехать чуть ли не весь Большой канал, по размерам соответствующий нашей Тверской с Ямской и Ленинградским шоссе до Петровского парка. Пароходы-трамваи подходят к остановкам, пристаням, расположенным то по одной, то по другой стороне канала через каждые три – пять минут ходу. Таким образом этот водяной трамвай все время идет зигзагами от одного берега к другому. Канал извилист и круто заворачивает от центральной площади к центру. Ширина его – с среднюю ширину Оки. Окраска воды морская, ярко-зеленого цвета, и вода прозрачная, не заплеванная и не замасленная, как это может представиться. По крайней мере, я всегда думал, представляя себе Венецию, что вода каналов мутная и черная. Это представление совершенно ошибочно: вода каналов веселая и чистая на вид, нигде в ней нет ни мусора, ни пены. Зеленая малахитовая неизнашивающаяся водяная мостовая[502 - Асеев Н. Разгримированная красавица. Путевые записки. М., <1928>. С. 212–213.].
Описанная часть экскурсионной программы была более чем традиционна – собор Святого Марка (с ритуальным припоминанием карикатур Д. Моора в «Безбожнике»), пьяцца, Дворец дожей, кампанила – и обратный путь к вокзалу.
36
Сведения о советских визитах в Венецию 1930?х годов более чем отрывочны, и причины этого очевидны. С одной стороны, резко снизилось их число: организованный зарубежный туризм почти отсутствовал, а служебные надобности в этом маршруте почти иссякли: ощетинивавшийся Советский Союз, в частности, прекратил с 1934 года участие в международных выставках. С другой стороны, вырождался и сам жанр травелога, малоуместный в сгущающейся литературной атмосфере. Оставались визиты частного характера – но и их можно пересчитать по пальцам. Так, осенью 1931 года в Венеции был Луначарский, о чем известно, по сути, по двум документам – хвастливому зачину его письма Горькому («Дорогой Алексей Максимович, во-первых, пользуюсь случаем, чтобы послать Вам привет из Венеции»[503 - Письмо начала сентября 1931 г. // Горький М. Неизданная переписка. М., 1976. С. 114 (Архив А. М. Горького. Т. 14). Здесь же в комментариях приводится примерный маршрут и приблизительные даты его поездки.]) и полному сдержанной ретивости запросу издательства «Время»: «Академику А. В. Луначарскому Венеция Отель Бюллер <sic!>. У нас возникло два вопроса, которые мы не считаем возможным разрешить, не запросив Вас как Председателя нашего Редакционного Совета, что и вынуждает нас беспокоить Вас даже за границей»[504 - Письмо Я. Г. Раскина и Г. П. Блока от 4 сентября 1931 г. – Панченко Н. Автографы А. В. Луначарского в Пушкинском Доме // РЛ. 1966. № 2. С. 216.] (надо ли говорить, что следующий далее вопрос, касающийся реализации «Занимательной минералогии», трудно счесть неотложным даже при исключительной преданности делу).
Лучше прочих документирована состоявшаяся в конце 1933 – начале 1934 года продолжительная европейская поездка бывшего эгофутуриста, а на тот момент правоверного советского писателя Б. А. Лавренева, захватившая Польшу, Австрию, Чехословакию, Италию, Швейцарию, Германию и Францию. С дороги он писал оставленным соратникам длинные письма, где, в частности, мельком похвалил и Венецию: «Без сомнения, хороша Италия. Неповторимо обаяние Венеции, плеск зеленой воды и плеск голубиных крыльев на площади Св. Марка, тишина узких каналов, горбатые мостики, купающиеся в воде истоптанные ступеньки»[505 - Письмо к А. М. Дмитриеву от 2 декабря 1933 г. – Цит. по: Полякова Г. Г. Архив А. М. Дмитриева // ЕРОПД на 1972 г. Л., 1974. С. 51.]. По возвращении он напечатал серию путевых очерков, один из которых был специально посвящен венецианским впечатлениям. В соответствии со структурой момента начинался он с обличения:
Меньше всего нам хотелось ездить в гондоле. Эта унылая обезьянья клетка выглядит поэтически только на романтизированных гравюрах и акварелях и в сахаринных стихах. Вблизи это – орудие пытки, пригодное и удобное только для одной цели – в ней хорошо душить или прикалывать пассажиров.
Но еще хуже гондолы моторная лодка – бич Венеции за последние годы[506 - Лавренев Б. Собрание сочинений. Т. 8. М., 1995. С 42.].
В дальнейшем, впрочем, тон менялся – и традиционные венецианские маршруты описывались автором с большей теплотой: мимо моста Риальто он, слегка не совладав с картой, вышел к пьяцце, посетил Дворец дожей (с обычным для советских визитеров тщанием оглядев тюрьму) и прогулялся по стекольной фабрике, ничего не купив.
В 1936 году на пьяцце, за столиком кафе, озарение настигло другого советского гостя, полпреда СССР в Болгарии Федора Раскольникова. Этот момент хорошо запомнила его жена:
Настал роковой день. Против нашего обыкновения, утром мы не пошли на пляж (мы жили на Лидо), но сразу отправились в Венецию. Около полудня мы сидели у Флориана. Федя просматривал несколько французских и итальянских газет, а я рассеянно следила за толпой веселых туристов, слушая шелест голубиных крыльев. Вдруг Федя протягивает мне газету: французская газета объявляла о начавшемся в Москве процессе Зиновьева, Каменева и еще 14 видных большевиков. Они обвинялись в убийстве Кирова, подготовке убийства Сталина, в измене родине и т. п. Все подсудимые сознавались в невероятных преступлениях. Раскольников купил еще несколько газет, на всех языках, но и в них мы нашли те же известия. Сомнений не было, в Москве открылся «процесс ведьм». Тут же на площади Святого Марка Раскольников заявил мне: „Муза, ни одному слову обвинения я не верю. Все это наглая ложь, нужная Сталину для его личных целей. Я никогда не поверю, что подсудимые совершили то, в чем их обвиняют и в чем они сознаются. Но почему они сознаются?..“
В одно мгновение зловещая тень затмила светлый облик Венеции и на долгие годы тяжкий гнет лег на наши сердца[507 - Канивез М. Моя жизнь с Раскольниковым // Минувшее. Т. 7. М., 1992. С. 100.].
Как известно, природная осторожность, дар предвидения и умение складывать простые числа в уме подарили ему еще несколько лет жизни: уже возвращаясь в СССР по срочному вызову, он увидел в купленной на берлинском вокзале газете сведения о своем смещении с поста и счел нелишним опоздать на московский поезд.
37
Относительно регулярные поездки советских граждан в Венецию возобновились в середине 1950?х годов; среди отчетов о них (довольно немногочисленных) выделяется необщим тоном и обилием подробностей один ненапечатанный документ. Он сохранился в архиве В. П. Антонова-Саратовского – выпускника историко-филологического факультета МГУ, профессионального революционера, сделавшегося после 1917 года одним из жерновов советской юридической машины – членом коллегии НКВД, ректором Коммунистического университета, заседателем Верховного суда в самые мрачные годы его существования. В 1940?х годах он слегка стушевался – будучи персональным пенсионером, оставался работать в штате Министерства юстиции РСФСР, принимал участие в съездах КПСС и даже – заслужив от Солженицына титул «долгожителя»[508 - Солженицын А. И. Малое собрание сочинений. Т. 5. М., 1991. С. 270.] – подписывал в 1962 году некрологи жертвам репрессий. В 1930?х годах он был исключительно пылким теоретиком и практиком туризма – естественно, сообразно моменту – внутреннего, хотя порой задумывался и о зарубежном: «В настоящее время затруднены наши сношения с заграницей. Но „ничто не вечно под луною“, отпадут эти затруднения, и наш туризм проложит себе дорогу к трудящимся по ту сторону границы»[509 - Антонов-Саратовский В. П. Основные задачи советского туризма. <М.,> 1929. С. 9. См. также его весьма любопытные работы: Антонов-Саратовский В. Рабочий туризм при капитализме. М.; Л., 1932; Антонов-Саратовский В. П. Как вести туристскую работу среди иностранцев, работающих на предприятиях Союза ССР. <М.,> 1932; Антонов-Саратовский В. Беседы о туризме. М.; Л., 1930 и др.].
В его слегка хаотичном фонде в ГАРФ отложились машинописные воспоминания о венецианской поездке, совершенной в 1940?х или 1950?х годаз[510 - Единственное основание для датировки – цены, но, судя по ним, поездка могла относиться даже к довоенному времени, что, в свою очередь, кажется не слишком вероятным по контексту: мог ли в 1930?х годах высокопоставленный советский юрист отправиться в увеселительную поездку по Италии? В биографии его (Барков Б. Жизнь, избранная сердцем. Саратов, 1968) зарубежные путешествия не упоминаются вовсе, но зато мы можем предположить, что компанию ему составляла упомянутая там его жена Н. М. Маркова. Архивисты, описывавшие его фонд, также датируют рукопись 1950?ми годами.] автором и его спутницей; простая логика требует признать их принадлежащими его перу, хотя полной убежденности в этом у нас нет.
– Венеция, – указывая пальцем в синеватую темень ночи, бросил мне итальянец, с которым мы курили у открытого окна вагона.
Я порывисто высунулся и увидел ночь, опоясанную бусами электрических точек. Эти бусы были световым контуром «морской жемчужины» – Венеции. Поезд шел по мосту через лагуну; по обеим сторонам моста, соединяющего материк с островами, металлически поблескивала водная поверхность, все больше и больше отражая электрические бусы и световые снопы лучей; они мчались к нам с быстротою 60 километров в час.
Еще несколько минут, и стены вокзала, отразив дьявольский грохот поезда, приняли его у перрона. Пассажиры засуетились и стали выдираться через узенький коридор вагона со своими чемоданами, чемоданчиками, баулами и баульчиками. Вызвав фокино (носильщика), мы пошли к выходу, где по обыкновению нас облепила орава комиссионеров, расхваливавшая наперебой качество своих отелей. Друзья нас наделили адресом: отель Италия – Бауэра Грюнвальда. Агенту этого отеля мы передали свой багаж, и он нас проводил до гондолы, услужливо подготовленной для встречи клиентов. По ступеням вокзального плато, уходящим в черно-зеленую зыбь. Нищий, промышляющий специфически венецианской профессией, – придерживанием багром гондолы у спуска – помог нам сесть и тотчас же снял шляпу для вознаграждения. Я сперва возмутился, но потом пришел в юмористическое настроение и бросил на дно шляпы лиру.
«Мольто бенэ, сеньоре, бениссимо… грациэ», – отвесил он мне поклон, каким кланялись его предки 15 века.
Мы в гондоле.
Это довольно большая лодка, обычно окрашенная в черный цвет и покрытая лаком. Нос гондолы сохранил в несколько стилизованном виде форму «ростры» венецианских судов 9–10 века. Посредине гондолы расположена, как общее правило, беседка со шторами или нечто вроде паланкина. Внутри беседки два мягких кресла с высокими спинками (оба по направлению к «ростре») и два стула или скамьи по бокам. Мы уселись в эти кресла, причем я вытянулся и полулежа опирался головой на мягкую спинку кресла. Это было удобно. Кроме нас гондола приняла еще двух пассажиров – немецкую семью – и отошла от причала. Гондольер стал на корме гондолы и длинным, широколопастным веслом правил своим ленивым суденышком. Ритмически покачиваясь и остро впиваясь в окружающую нас панораму ночной Венеции, мы плыли по сложной сети водяных улиц – каналов. На перекрестках гондольер издавал ряд предупредительных звуков, состоящих, как мне казалось, из одних только гласных, делал чрезвычайно ловкие повороты и удивительно легко лавировал среди многочисленных встречных гондол. В одних гондолах полулежали парочки, положив друг другу руку на руку, в других – целые компании то поющих, то весело болтающих на разных языках «форестьери» (иностранцев).
В каналах было довольно темно, и порой казалось, что они освещаются только скованной ими Адриатикой. По обеим сторонам каналов высились фантастические фасады громадных зданий, как бы выросших из воды. Из закрытых деревянными, очень часто железными, решетками окон раздавалась певучая итальянская речь, смех, а иногда женский или мужской голос, под аккомпанемент рояля, дарил тишину канала «тремолой» меццо-сопрано или тенора…
На весле гондольера переливалась волна…
Недурно, черт возьми.
Через полчаса мы остановились у блистающего электрическими солнцами дворца. Это и был наш отель. На световой белизне входа, как из-под земли, выросли три «джентльмена», по виду из тех, которые у нас при царе играли роль шаферов на дворянских свадьбах. С видом величайшего почтения, почти священнодействуя, они извлекли нас из гондолы и «прияли» во дворце. Наша жизнь почти вытравила этот тип холуев, и потому у нас шевельнулось к ним (хотя они и не виноваты) изрядное отвращение. И кроме того, умеют же служащие германских отелей сохранять известный минимум человеческого достоинства.
«Кванто коста?» – спросил я гондольера. – «Диэчи лире». Значит – плати рупь. Выпустив из тощего кошелька рубль и получив в спину традиционную «грацию», я вошел в отель. Что и говорить, очень, очень шикарный отель. В вестибюле – изящная мебель, удобные, обитые кожей американские кресла, столики для писанья писем, ковры, цветы, картины, какие-то «античные» скульптуры и свет… свет… свет. Море света.
Ох, лучше бы похуже. Попали. Обдерут как липку. Да замучаются икотой советчики, давшие адрес. Прошу дать мне комнату, приличную, но не дорогую, не дороже 30 лир в сутки. «Таких нет, – последовал ответ. – Есть лишь в 60 лир». Караул, грабят! Но ничего не поделаешь. Куда пойдешь, да еще в час ночи… кругом вода и неизвестность. Вот уж именно в озеро головой. – Не может быть, чтобы у вас не было комнат подешевле. – Нет, сеньор. И величественное пожимание плеч. Для доказательства даже была показана карточка с перечеркнутыми номерами за исключением двух, одного в 60 лир и другого в 85 лир. (Я потом узнал, что все они на один покрой: все показывают карточку с якобы занятыми номерами, хотя в отеле жильцов полтора человека.) Покажите оба, – уныло потребовал я. Нас повели на второй этаж. Лестница уходила в комнату похожую на столовую. В ней был стол и на столе банка с пальмой (финик реклината). Меня заинтересовала «декорация». Когда с лестницы смотришь в эту столовую, то кажется, что лестница упирается в зеркало, которое отражает в себе стол и пальму. Рама двери сделана под раму зеркальную. В эту комнату выходит ряд номеров. Наши номера здесь. Осмотрев оба номера, мы пришли к заключению, что дешевый номер лучше дорогого. Лишь на следующий день мы узнали, почему это так. Оказалось, что окно шестидесятилирного номера выходило во двор дворца и как раз над кухонным фонарем. Вся гарь и вонь скверной итальянской кухни как по трубе поднималась в окно и отравляла воздух в комнате нестерпимыми миазмами.
С внешней же стороны номер был очень хороший, «исторический». Стены его были обиты какой-то штофной материей; на очень удобных, низеньких креслицах были разбросаны четырехугольники венецианских кружев, но сильнее всего поражали кровати. Огромные, деревянные с вычурами, под кисейным балдахином, какой можно видеть в наших бытовых музеях или на картинах итальянских художников. На изголовных спинках кроватей замысловатые гербы и сочетание букв «Н» и «I», если читать по-русски, то получишь вензель Николая I-го. Ну как в такой «истории» спать? Ни руки, ни ноги не найдешь. Жуть одна.
Все же, утомленные, мы не могли удержаться и с юмором отчаяния нырнули в пасть этих чудищ. Мягки они необычайно. Непривыкший спать на такой «мякоти», я долго не мог заснуть, а когда все-таки уснул, тело мое попало на пир москитам, и встал я искусанный этой «песьей мухой» вдоль и поперек[511 - ГАРФ. Ф. 7474. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 1–7.].
Следующий день был посвящен осмотру достопримечательностей. Доплыв на гондоле до пьяццы (пятиминутная поездка обошлась в 20 лир, о чем автор, не знавший сухопутной дороги, горько пожалел), путешественники осмотрели собор, Дворец дожей (с попутным сопоставлением венецианских и российских тюрем, приведенным нами выше) и обширным экскурсом в венецианскую историю, степень глубины которого явно выдавала изрядное знакомство с предметом. Впрочем, его не хватило, чтобы избежать очередного потрясения для скудных финансов:
Спасаясь (и страдая) от голубей, мы забежали в ресторан и кафе «Флориан». Было время обеда, и мы поели, отдав за довольно неважный обед в этом знаменитом ресторане 52 лиры на двоих. Это был первый и последний наш обед в фешенебельном ресторане. В дальнейшем мы столовались в небольшом немецком ресторанчике, помещавшемся в одном из ближайших переулков к площади Марка. Там обед стоил 20–25 лир на двоих и выгодно отличался как сытностью, так и свежестью продуктов и вкусностью приготовления[512 - ГАРФ. Ф. 7474. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 26.].
В тот же день путешественники отправились на Мурано, причем гондольер, ангажированный ими за 30 лир, проложил путь узкими каналами, через непарадную часть города – по предположению автора, ради безмолвной жалобы на невыносимые условия: «По-видимому, гондольер повез нас здесь лишь потому, что мы русские из легендарного рабочего государства»[513 - Там же. Л. 28.]. Увиденное поразило:
Вода в канальчиках мутная, грязная и вонючая. Объедки арбузов, дынь, разные отбросы, рваная обувь, какие-то тряпки, мусор, все это плывет жирно вонючим салом по каналам, превращая их в клоаку. По бокам высокие дома, грязные, облупленные, с обвалившимися кирпичами, с ржавыми железными решетками в нижних этажах, с покосившимися дверями и разбитыми стеклами в окнах; очень часто окна совсем без стекол. Заглядывая внутрь домов, я видел ту же грязь, чувствовал заплесневелую сырость; отвратительная вонь дышала из окон и дверей, словно из гнилого рта. Всюду на окнах и на веревочках, иногда перетянутых через весь канальчик, сушилось белье, редко крепкое, все больше какая-то рвань. Бедность, граничащая с нищетой, глядела печальными глазами из нижних этажей жилищ. На крылечках и выступах суши кучками толклись черноглазые и черноволосые ребятишки. Многие из них купались в клоаке. К нашей гондоле подплывали они группами и просили бросить монетку. За брошенным чентезимом они кидались в перегонку, ныряли, дрались друг с другом. Говорят, не было случая, чтобы ребята упустили чентезим и он пошел ко дну. Пловцы они великолепные. Нищета отложила на их телах свою окаянную печать худосочия. Кожа да кости. Больные глаза… Порой видишь изможденные лица ремесленников… Из окон выглядывают женщины, в рубище, косматые, грязные, с болезненно одутловатыми лицами… Вот она дневная «морская жемчужина», вот ее оборотная сторона, ее бедные кварталы и каналы, ее бедное население…[514 - Там же. Л. 27–28.]