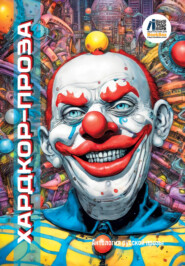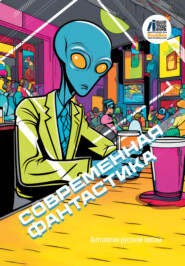По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кружение незримых птиц
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рыжего она больше не видела никогда.
Правда, иногда случались такие сумерки, что она невольно ждала: вот-вот вылетит ей навстречу большой черный велосипед, на котором будут сидеть двое детей – рыженький мальчик лет пятнадцати и мальчишеского вида девочка годом младше – и полетят в тишине и молчании, зачарованные этой тишиной и полетом.
И девочка будет смотреть в сгущающуюся темноту широко раскрытыми глазами, а мальчик будет тихонько целовать ее коротко остриженные волосы.
4. Акация
Школьный звонок огласил своим дребезжаньем самый разгар лучезарного майского дня, уроки закончились, можно было идти домой.
Весь путь до дома пролегал по двум улицам, засаженным высоченными акациями, которые именно сейчас вовсю цвели и заполняли своим парфюмерно-кондитерским ароматом все окружающее пространство.
Летний зной еще не обрушился на город, еще не сжал его в лихорадочных душных объятиях, и потому пройтись под акациями было очень приятно.
Легчайший ветер слегка касался ее щек и тонкой шеи, обрамленной кружевом форменного воротничка, чуть ерошил коротко остриженные волосы – она просто плыла в этом блаженном тепле, насвистывая тихонько какой-то мотивчик и помахивая синим портфельчиком в такт этому мотивчику.
Впереди нее шли двое пацанов из параллельного класса, живших где-то в тех же краях, что и она. Пару раз они оглянулись на нее, но ее блаженно-отсутствующий вид ясно говорил, что она их не видит, они оглядываться перестали, сблизили головы на ходу, о чем-то тихонько переговорили между собой, а потом, как по команде, куда-то свернули.
Но и этот их маневр остался незамеченным, она продолжала идти, как шла, нога за ногу, не торопясь и ничего не замечая вокруг себя.
Ветер, гладивший ее щеки, шевелил и будоражил листья акаций, сбивал уже отцветшие сухие цветочки, которые с легким шорохом все сыпались и сыпались с деревьев и собирались кучками в трещинах и неровностях асфальта.
По стенам домов и тротуару плясали тени листвы и солнечные пятна, их мешанина образовывала сияющую теплую сеть, в которую вплетались запах акации и шорох опадающих цветов.
В эту сеть были пойманы все улицы, весь город, и она шла, всей собой ощущая, как и ее обволакивают свет, тепло, запахи, звуки, тени.
Мальчишки вдруг вывернули из-за угла и загородили ей дорогу. Попытка обойти неожиданное препятствие оказалась безуспешной, это вывело ее из транса, и она непонимающе уставилась на них своими темными, в темных ресницах, глазами.
Они стояли перед ней угрюмо, каждый держал одну руку за спиной, и, казалось, ничего не собирались препринимать.
Но вдруг они одновременно протянули руки вперед, и она увидела перед собой две ветки акации с пышными свежими сладко пахнущими гроздями.
Мгновение смотрела она на эти ветки, потом вскинула на мальчишек короткий взгляд, убедилась, что они по-прежнему мрачны и смотрят серьезно, зажала портфель между коленями, обеими руками взяла подарок, окунула лицо в белые цветы и замерла, вдыхая их сладость и свежесть.
Пацаны продолжали стоять перед ней все с тем же сумрачным видом, и невозможно было понять, осознали они, что подарок их принят, или нет.
Она оторвалась от цветов, опять посмотрела на приятелей, поудобнее перехватила ветки левой рукой, в правую взяла портфель, сказала спокойно и доброжелательно: «Спасибо, мальчики», – без всякого затруднения обогнула их и пошла, как и шла – нога за ногу, – домой.
Пацаны развернулись и пошли за ней, не отставая, но и не забегая вперед.
Улица, город и, видимо, весь мир были заполнены и пронизаны нежнейшей золотой смесью весны, солнца, юга, ожидания лета.
Они шли сквозь это золотое свечение, которое – и это было абсолютно ясно – не погаснет никогда.
5. «Саммер тааааайм…»
Девочка принесла из кухни два блюдца и поставила их на застеленную газетой табуретку. На одном блюдце лежал бутерброд с ветчиной, на другом светился блестящей верхней корочкой ромбик пахлавы.
Табуретку девочка придвинула к дивану и выключила верхний свет.
Теперь комната освещалась только разноцветными огнями елочной гирлянды и поэтому казалась девочке очень нарядной и немного таинственной.
Возле дивана на небольшой тумбочке, застеленной скатертью с вышитыми на ней маками, стояла радиола «Латвия».
Девочка щелкнула переключателем, и приемник благодарно уставился на нее своим горящим зеленым кошачьим глазом. Глаз пульсировал и казался совершенно живым.
Повинуясь ползущему по шкале движку, радиола засвистела, засвиристела, что-то хрипло выкрикнула, взвыла, забормотала на инопланетных языках – пространство ворвалось в комнату и пыталось внушить что-то девочке, терпеливо крутившей ручку настройки.
Но оно не успело: сквозь его завывания и хрип пробилась мелодия, окрепла, заглушила шум.
Чистые голоса саксофонов, дребезжание банджо, фортепьянные аккорды, кваканье труб, дробь барабанов – девочка была довольна.
Она забралась с ногами на диван и оглядела свои владения.
Комната была убрана к празднику – вымыты полы, разложены по местам вещи, хлам повседневной жизни растыркан по незаметным местам. Темнота скрывала нищий достаток комнаты, а огни елки придавали ей уют и благообразность, которых она была лишена при свете.
В темной, почти черной хвое елки то и дело вспыхивали тусклые отблески игрушек, слегка позванивавших при едва заметных сотрясениях пола, когда мимо дома презжал троллейбус.
Тихий нежный перезвон игрушек в темной комнате, освещаемой лишь слабыми разноцветными огоньками елки, желтым свечением шкалы радиоприемника и зеленым маяком его глаза, казался девочке олицетворением любимого праздника, который она – вот удача! – впервые, пусть и с опозданием на два дня, отмечала одна.
Она сидела в темной комнате, где светилась и звенела елка, а в радиоле труба выпевала отчетливо: «Туру-тутуру турутуту-туту…».
Девочка знала эту мелодию и стала подпевать трубе: «Изба-читальня, сто второй этаж, там кучка негров лабает стильный джаз… – и опять вступала труба, – турутуру-ру, турутуру-ру, туру-туру, турутуру, ру».
Девочка грызла пахлаву и наслаждалась жизнью.
Ей редко доводилось оставаться дома одной, чуть ли не в первый раз это случилось сегодня, и она была в полном восторге от выпавшего такого счастливого случая: надо же – все ушли, а она осталась!
Дядя и тетя были званы в гости, бабушка повезла младших детей на праздничное представление в цирк, для девочки билета достать не смогли, и неожиданно вся квартира оказалась в полном ее распоряжении.
– Только никого не приводи, – строго сказала бабушка, надевая пальто, – убирай потом после вас.
Бабушка не понимала. Никто не понимал, да и не пытался понять, каким редким счастьем было одиночество – им следовало не делиться с кем бы то ни было, а наслаждаться самой, бережно и подробно.
И девочка изо всех сил старалась не упустить свой шанс: мелкими кусочками ела слишком дорогую для ее семьи, а потому редкую ветчину, столь же мелкие крошки отгрызала от пряной ореховой начинки пахлавы, смотрела на огни елки, тусклое свечение ее игрушек, вслушивалась в их слабый нежный перезвон и подпевала саксофону.
Он словно бы обволакивал ее своим звучанием, она купалась в его нежном, но мощном голосе, и ее маленькое сердце таяло и екало в теплом потоке музыки: «Саммер тааааайм…».
Радиола то щурила, то вытаращивала свой зеленый глаз в такт мелодии – так щурится и вытаращивается лежащая на коленях кошка, когда чьи-нибудь пальцы теребят и перебирают ее теплую и мягкую шерсть.
Понимала.
6. Где начало того конца?
В тот год она окончила институт, получила на руки темно-синий диплом с гербом на обложке, сдала ключ от комнаты в общежитии, забрала оттуда вещи, но по распределению все никак не уезжала.
Жить ей было негде, она скиталась по знакомым. Вещи, упакованные в большие картонные коробки из-под яиц, были свалены в камере хранения рабочего общежития, где ее подруга работала воспитателем.
Подруга эта уехала в отпуск, жить в ее комнате было невозможно: у соседки, что ни вечер, собиралась пьяная компания, а разогнать ее было некому.
Правда, иногда случались такие сумерки, что она невольно ждала: вот-вот вылетит ей навстречу большой черный велосипед, на котором будут сидеть двое детей – рыженький мальчик лет пятнадцати и мальчишеского вида девочка годом младше – и полетят в тишине и молчании, зачарованные этой тишиной и полетом.
И девочка будет смотреть в сгущающуюся темноту широко раскрытыми глазами, а мальчик будет тихонько целовать ее коротко остриженные волосы.
4. Акация
Школьный звонок огласил своим дребезжаньем самый разгар лучезарного майского дня, уроки закончились, можно было идти домой.
Весь путь до дома пролегал по двум улицам, засаженным высоченными акациями, которые именно сейчас вовсю цвели и заполняли своим парфюмерно-кондитерским ароматом все окружающее пространство.
Летний зной еще не обрушился на город, еще не сжал его в лихорадочных душных объятиях, и потому пройтись под акациями было очень приятно.
Легчайший ветер слегка касался ее щек и тонкой шеи, обрамленной кружевом форменного воротничка, чуть ерошил коротко остриженные волосы – она просто плыла в этом блаженном тепле, насвистывая тихонько какой-то мотивчик и помахивая синим портфельчиком в такт этому мотивчику.
Впереди нее шли двое пацанов из параллельного класса, живших где-то в тех же краях, что и она. Пару раз они оглянулись на нее, но ее блаженно-отсутствующий вид ясно говорил, что она их не видит, они оглядываться перестали, сблизили головы на ходу, о чем-то тихонько переговорили между собой, а потом, как по команде, куда-то свернули.
Но и этот их маневр остался незамеченным, она продолжала идти, как шла, нога за ногу, не торопясь и ничего не замечая вокруг себя.
Ветер, гладивший ее щеки, шевелил и будоражил листья акаций, сбивал уже отцветшие сухие цветочки, которые с легким шорохом все сыпались и сыпались с деревьев и собирались кучками в трещинах и неровностях асфальта.
По стенам домов и тротуару плясали тени листвы и солнечные пятна, их мешанина образовывала сияющую теплую сеть, в которую вплетались запах акации и шорох опадающих цветов.
В эту сеть были пойманы все улицы, весь город, и она шла, всей собой ощущая, как и ее обволакивают свет, тепло, запахи, звуки, тени.
Мальчишки вдруг вывернули из-за угла и загородили ей дорогу. Попытка обойти неожиданное препятствие оказалась безуспешной, это вывело ее из транса, и она непонимающе уставилась на них своими темными, в темных ресницах, глазами.
Они стояли перед ней угрюмо, каждый держал одну руку за спиной, и, казалось, ничего не собирались препринимать.
Но вдруг они одновременно протянули руки вперед, и она увидела перед собой две ветки акации с пышными свежими сладко пахнущими гроздями.
Мгновение смотрела она на эти ветки, потом вскинула на мальчишек короткий взгляд, убедилась, что они по-прежнему мрачны и смотрят серьезно, зажала портфель между коленями, обеими руками взяла подарок, окунула лицо в белые цветы и замерла, вдыхая их сладость и свежесть.
Пацаны продолжали стоять перед ней все с тем же сумрачным видом, и невозможно было понять, осознали они, что подарок их принят, или нет.
Она оторвалась от цветов, опять посмотрела на приятелей, поудобнее перехватила ветки левой рукой, в правую взяла портфель, сказала спокойно и доброжелательно: «Спасибо, мальчики», – без всякого затруднения обогнула их и пошла, как и шла – нога за ногу, – домой.
Пацаны развернулись и пошли за ней, не отставая, но и не забегая вперед.
Улица, город и, видимо, весь мир были заполнены и пронизаны нежнейшей золотой смесью весны, солнца, юга, ожидания лета.
Они шли сквозь это золотое свечение, которое – и это было абсолютно ясно – не погаснет никогда.
5. «Саммер тааааайм…»
Девочка принесла из кухни два блюдца и поставила их на застеленную газетой табуретку. На одном блюдце лежал бутерброд с ветчиной, на другом светился блестящей верхней корочкой ромбик пахлавы.
Табуретку девочка придвинула к дивану и выключила верхний свет.
Теперь комната освещалась только разноцветными огнями елочной гирлянды и поэтому казалась девочке очень нарядной и немного таинственной.
Возле дивана на небольшой тумбочке, застеленной скатертью с вышитыми на ней маками, стояла радиола «Латвия».
Девочка щелкнула переключателем, и приемник благодарно уставился на нее своим горящим зеленым кошачьим глазом. Глаз пульсировал и казался совершенно живым.
Повинуясь ползущему по шкале движку, радиола засвистела, засвиристела, что-то хрипло выкрикнула, взвыла, забормотала на инопланетных языках – пространство ворвалось в комнату и пыталось внушить что-то девочке, терпеливо крутившей ручку настройки.
Но оно не успело: сквозь его завывания и хрип пробилась мелодия, окрепла, заглушила шум.
Чистые голоса саксофонов, дребезжание банджо, фортепьянные аккорды, кваканье труб, дробь барабанов – девочка была довольна.
Она забралась с ногами на диван и оглядела свои владения.
Комната была убрана к празднику – вымыты полы, разложены по местам вещи, хлам повседневной жизни растыркан по незаметным местам. Темнота скрывала нищий достаток комнаты, а огни елки придавали ей уют и благообразность, которых она была лишена при свете.
В темной, почти черной хвое елки то и дело вспыхивали тусклые отблески игрушек, слегка позванивавших при едва заметных сотрясениях пола, когда мимо дома презжал троллейбус.
Тихий нежный перезвон игрушек в темной комнате, освещаемой лишь слабыми разноцветными огоньками елки, желтым свечением шкалы радиоприемника и зеленым маяком его глаза, казался девочке олицетворением любимого праздника, который она – вот удача! – впервые, пусть и с опозданием на два дня, отмечала одна.
Она сидела в темной комнате, где светилась и звенела елка, а в радиоле труба выпевала отчетливо: «Туру-тутуру турутуту-туту…».
Девочка знала эту мелодию и стала подпевать трубе: «Изба-читальня, сто второй этаж, там кучка негров лабает стильный джаз… – и опять вступала труба, – турутуру-ру, турутуру-ру, туру-туру, турутуру, ру».
Девочка грызла пахлаву и наслаждалась жизнью.
Ей редко доводилось оставаться дома одной, чуть ли не в первый раз это случилось сегодня, и она была в полном восторге от выпавшего такого счастливого случая: надо же – все ушли, а она осталась!
Дядя и тетя были званы в гости, бабушка повезла младших детей на праздничное представление в цирк, для девочки билета достать не смогли, и неожиданно вся квартира оказалась в полном ее распоряжении.
– Только никого не приводи, – строго сказала бабушка, надевая пальто, – убирай потом после вас.
Бабушка не понимала. Никто не понимал, да и не пытался понять, каким редким счастьем было одиночество – им следовало не делиться с кем бы то ни было, а наслаждаться самой, бережно и подробно.
И девочка изо всех сил старалась не упустить свой шанс: мелкими кусочками ела слишком дорогую для ее семьи, а потому редкую ветчину, столь же мелкие крошки отгрызала от пряной ореховой начинки пахлавы, смотрела на огни елки, тусклое свечение ее игрушек, вслушивалась в их слабый нежный перезвон и подпевала саксофону.
Он словно бы обволакивал ее своим звучанием, она купалась в его нежном, но мощном голосе, и ее маленькое сердце таяло и екало в теплом потоке музыки: «Саммер тааааайм…».
Радиола то щурила, то вытаращивала свой зеленый глаз в такт мелодии – так щурится и вытаращивается лежащая на коленях кошка, когда чьи-нибудь пальцы теребят и перебирают ее теплую и мягкую шерсть.
Понимала.
6. Где начало того конца?
В тот год она окончила институт, получила на руки темно-синий диплом с гербом на обложке, сдала ключ от комнаты в общежитии, забрала оттуда вещи, но по распределению все никак не уезжала.
Жить ей было негде, она скиталась по знакомым. Вещи, упакованные в большие картонные коробки из-под яиц, были свалены в камере хранения рабочего общежития, где ее подруга работала воспитателем.
Подруга эта уехала в отпуск, жить в ее комнате было невозможно: у соседки, что ни вечер, собиралась пьяная компания, а разогнать ее было некому.