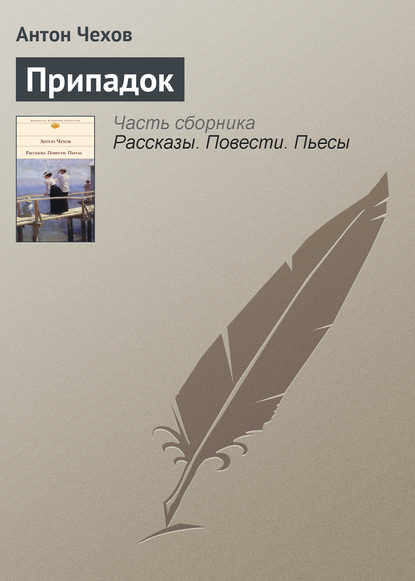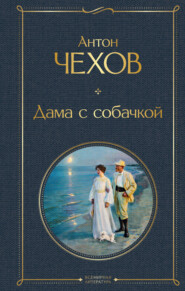По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Припадок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Припадок
Антон Павлович Чехов
«Студент-медик Майер и ученик московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С-в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними…»
Антон Павлович Чехов
Припадок
I
Студент-медик Майер и ученик московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С-в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними.
Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств – среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им ты. Но, несмотря на всё это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то молодой человек, чистый и самоотверженный, полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастия, отравилась.
Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из Дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и всё в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах – всё было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег.
– «Невольно к этим грустным берегам, – запел медик приятным тенором, – меня влечет неведомая сила…»
– «Вот мельница… – подтянул ему художник. – Она уж развалилась…»
– «Вот мельница… Она уж развалилась…», – повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.
Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:
– «Здесь некогда меня встречала свободного свободная любовь…»
Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:
– Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина – чтобы есть, женщины – чтобы бывать у них, снег – чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!
– Да я ничего… – сказал Васильев, смеясь. – Разве я отказываюсь?
От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей всё уравновешено, как в их умах и душах всё законченно и гладко! Они и поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и как люди ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрогивания прохожих…
Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели – один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие, черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда всё покрыто снегом и весною в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.
– «Невольно к этим грустным берегам, – запел он вполголоса, – меня влечет неведомая сила…»
И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу.
Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку. Неведомая блондинка или брюнетка наверное будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: «Ради бога, что вы делаете! Потушите!» Всё это страшно, но любопытно и ново.
II
Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок – звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:
– Как много домов!
– Это что! – сказал медик. – В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.
Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой… И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.
– Начнем с самого начала, – сказал художник. Приятели вошли в узкий коридорчик, освещенный лампою с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и кроме того еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.
– Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! – начал художник, театрально раскланиваясь.
– Гаванна-таракано-пистолето! – сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.
Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет 17–18, стриженая, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.
– Что ж вы в дверях стоите? – сказала она. – Снимите ваши пальты и входите в залу.
Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.
– Господа, снимайте ваши пальты! – сказал строго лакей. – Так нельзя.
Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.
– Где же остальные барышни? – спросил медик.
– Они чай пьют, – сказала блондинка. – Степан, – крикнула она, – пойди скажи барышням, что студенты пришли!
Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая…
Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.
Всё было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство – это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.
«Как всё бедно и глупо! – думал Васильев. – Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный грех – купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем… не надо думать!»
– Борода, угостите портером! – обратилась к нему блондинка.
Васильев вдруг сконфузился.
– С удовольствием… – сказал он, вежливо кланяясь. – Только извините, сударыня, я… я с вами пить не буду. Я не пью.
Минут через пять приятели шли уже в другой дом.
– Ну, зачем ты потребовал портеру? – сердился медик. – Миллионщик какой! Бросил шесть рублей, так, здорово-живешь, на ветер!
– Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? – оправдывался Васильев.
– Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.
– «Вот мельница… – запел художник. – Она уж развалилась…»
Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется, в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал «Листок» и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.
III
Антон Павлович Чехов
«Студент-медик Майер и ученик московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С-в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними…»
Антон Павлович Чехов
Припадок
I
Студент-медик Майер и ученик московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С-в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними.
Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств – среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им ты. Но, несмотря на всё это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то молодой человек, чистый и самоотверженный, полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастия, отравилась.
Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из Дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и всё в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах – всё было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег.
– «Невольно к этим грустным берегам, – запел медик приятным тенором, – меня влечет неведомая сила…»
– «Вот мельница… – подтянул ему художник. – Она уж развалилась…»
– «Вот мельница… Она уж развалилась…», – повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.
Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:
– «Здесь некогда меня встречала свободного свободная любовь…»
Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:
– Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина – чтобы есть, женщины – чтобы бывать у них, снег – чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!
– Да я ничего… – сказал Васильев, смеясь. – Разве я отказываюсь?
От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей всё уравновешено, как в их умах и душах всё законченно и гладко! Они и поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и как люди ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрогивания прохожих…
Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели – один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие, черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда всё покрыто снегом и весною в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.
– «Невольно к этим грустным берегам, – запел он вполголоса, – меня влечет неведомая сила…»
И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу.
Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку. Неведомая блондинка или брюнетка наверное будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: «Ради бога, что вы делаете! Потушите!» Всё это страшно, но любопытно и ново.
II
Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок – звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:
– Как много домов!
– Это что! – сказал медик. – В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.
Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой… И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.
– Начнем с самого начала, – сказал художник. Приятели вошли в узкий коридорчик, освещенный лампою с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и кроме того еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.
– Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! – начал художник, театрально раскланиваясь.
– Гаванна-таракано-пистолето! – сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.
Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет 17–18, стриженая, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.
– Что ж вы в дверях стоите? – сказала она. – Снимите ваши пальты и входите в залу.
Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.
– Господа, снимайте ваши пальты! – сказал строго лакей. – Так нельзя.
Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.
– Где же остальные барышни? – спросил медик.
– Они чай пьют, – сказала блондинка. – Степан, – крикнула она, – пойди скажи барышням, что студенты пришли!
Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая…
Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.
Всё было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство – это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.
«Как всё бедно и глупо! – думал Васильев. – Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный грех – купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем… не надо думать!»
– Борода, угостите портером! – обратилась к нему блондинка.
Васильев вдруг сконфузился.
– С удовольствием… – сказал он, вежливо кланяясь. – Только извините, сударыня, я… я с вами пить не буду. Я не пью.
Минут через пять приятели шли уже в другой дом.
– Ну, зачем ты потребовал портеру? – сердился медик. – Миллионщик какой! Бросил шесть рублей, так, здорово-живешь, на ветер!
– Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? – оправдывался Васильев.
– Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.
– «Вот мельница… – запел художник. – Она уж развалилась…»
Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется, в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал «Листок» и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.
III