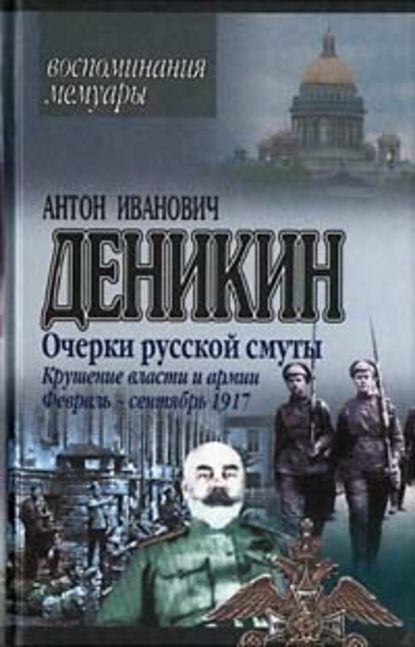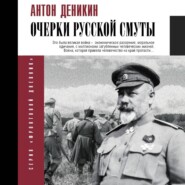По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крушение власти и армии. (Февраль-сентябрь 1917 г.)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В окопах тянутся нудные, томительные часы. Скука, безделье. В одном углу играют в карты, в другом – лениво, вяло рассказывает что-то вернувшийся из отпуска солдат; в воздухе висит скверная брань. Кто-то читает вслух «Русский Вестник»:
«Англичане хотят, чтобы русские пролили последнюю каплю крови для вящей славы Англии, которая ищет во всем барыша… Милые солдатики, вы должны знать, что Россия давно бы заключила мир, если бы этому не помешала Англия… Мы должны отшатнуться от нее – этого требует русский народ – такова его святая воля»…
Кто-то густо выругался:
– Как же, помирятся,…и…м…, подохнешь тут, не видавши воли…
По окопам прошел поручик Альбов, командующий ротой. Он как-то неуверенно, просительно обращался к группам солдат:
– Товарищи, выходите скорей на работу. В три дня мы не вывели ни одного хода сообщений в передовую линию.
Игравшие в карты даже не повернулись; кто-то вполголоса сказал «ладно». Читавший газету привстал и развязно доложил:
– Рота не хочет рыть, потому что это подготовка к наступлению, а комитет постановил…
– Послушайте, вы ни черта не понимаете, да и почему вы говорите за всю роту? Если даже ограничиться одной обороной, то ведь в случае тревоги мы пропадем: вся рота по одному ходу не успеет выйти в первую линию.
Сказал и, махнув рукой, прошел дальше. Безнадежно. Каждый раз, когда он пытается говорить с ними подолгу и задушевно – они слушают внимательно, любят с ним беседовать, и вообще, своя рота относится к нему по-своему хорошо. Но он чувствует, что между ним и ими стала какая-то глухая стена, о которую разбиваются все его добрые порывы. Он потерял дорогу к их душе, запутавшись в невылазных дебрях темноты, грубости и той волны недоверия и подозрительности, которая влилась в солдатскую среду. Не те слова, может быть, не умеет сказать? Как будто бы нет. Еще незадолго до войны, будучи студентом и увлекаясь народничеством, он бывал и в деревне, и на заводе и находил «настоящие» слова, всем доступные и понятные. А главное, какими словами заставишь людей идти на смерть, когда у них все чувства заслонило одно чувство – самосохранения. Мысли его прервало внезапное появление командира полка.
– Чёрт знает, что такое! Дежурный не встречает. Люди не одеты. Грязь, вонь. За чем вы смотрите, поручик?
Седой полковник суровым взглядом, невольно импонирующим, окинул солдат. Все повскакали. Он поглядел в бойницу и, отшатнувшись, нервно спросил:
– Это что такое?
На зеленом поле, между проволочными заграждениями шел настоящий базар. Группа немецких и наших солдат обменивали друг у друга водку, табак, сало, хлеб. Поодаль, на траве полулежал немецкий офицер – красный, плотный, с надменным выражением лица и вел беседу с солдатом Соловейчиком. И странно: фамильярный и дерзкий Соловейчик стоял перед лейтенатом прилично и почтительно.
Полковник оттолкнул наблюдателя и, взяв у него ружье, просунул в бойницу. Среди солдат послышался ропот. Стали просить не стрелять. Один вполголоса, как бы про себя, промолвил:
– Это провокация…
Полковник, красный от бешенства, повернулся на секунду к нему и крикнул:
– Молчать!
Все притихли и прильнули к бойницам. Раздался выстрел, и немецкий офицер как-то судорожно вытянулся и замер; из головы его потекла кровь. Торговавшие солдаты разбежались.
Полковник бросил ружье и, процедив сквозь зубы: «мерзавцы», пошел дальше по окопам. «Перемирие» было нарушено.
Поручик ушел к себе в землянку. Тоскливо и пусто на душе. Сознание своей ненужности и бесполезности, в этой нелепой обстановке, извращавшей весь смысл служения Родине, которое одно только оправдывало и все тяжелые невзгоды, и, может быть, близкую смерть, давило его. Он бросился на постель; лежал час, два, стараясь не думать ни о чем, забыться…
А из-за земляной стены, где было убежище, полз чей-то заглушенный голос и словно обволакивал мозг грязной мутью:
– Им хорошо, с. с-ам – получает как стеклышко сто сорок целковеньких в месяц, а нам – расщедрились – семь с полтиной отпустили. Погоди, будет еще наша воля…
Молчание.
– Слышно, землицу делят у нас в Харьковской. Домой бы…
Стук в дверь. Пришел фельдфебель.
– Ваше благородие (он всегда звал так своего ротного командира без свидетелей), рота сердится, грозят уйти с позиции, если сейчас не сменят. 2-ой батальон должен был сменить нас в 5 часов, а его и доселе нет. Нельзя ли спросить по телефону.
– Не уйдут, Иван Петрович… Хорошо, спрошу, да только теперь уже все равно поздно – после утреннего происшествия немцы смениться днем нам не позволят.
– Позволят. Комитетчики уже знают. Я так думаю, – он понизил голос, – Соловейчик успел сбегать объяснить. Слышно, что немцы обещали помириться, только чтобы следующий раз, когда придет в окопы командир, им дали знать – бросят бомбу. Вы бы доложили, а то неровен час…
– Хорошо.
Фельдфебель хотел уйти. Поручик остановил его.
– Плохо, Петрович, не верят нам…
– Да уж Бог его знает, кому они верят; вот на прошлой неделе в 6 роте сами фельдфебеля выбрали, а теперь над ним же измываются, слова сказать не дают…
– Что же будет дальше?
Фельдфебель покраснел и тихо ответил:
– А будет то, что Соловейчики над нами царствовать будут, а мы у них на положении, значит, скота бессловесного, – вот что будет, ваше благородие!..
Пришла, наконец, смена. Зашел в землянку командир 5 роты капитан Буравин. Альбов предложил ознакомить его с участком, и объяснить расположение противника.
– Пожалуй, хоть это не имеет значения, ибо я по существу ротой не командую – нахожусь под бойкотом.
– Как?
– Так. Выбрали ротным прапорщика, моего субалтерна, а меня сместили за приверженность к старому режиму – два раза в день, видите ли, занятия назначал – ведь маршевые роты приходят абсолютно необученные. Прапорщик первый и голосовал за мое удаление. «Довольно – говорит – нами помыкали. Теперь наша воля. Надо почистить всех, начиная с головы. С полком сумеет справиться и молодой, лишь бы был истинный демократ и стоял за солдатскую волю». Я бы ушел, но командир полка категорически воспротивился и не велит сдавать роты. Вот теперь у нас два командира, значит. Пять дней терплю это положение. Послушайте, Альбов, вы не торопитесь? Ну, прекрасно, поболтаем немного. Что-то тяжело на душе… Альбов, вам не приходила еще мысль о самоубийстве?
– Пока нет.
Буравин вскочил.
– Поймите, душу всю проплевали, над человеческим достоинством надругались – и так каждый день, каждый час, в каждом слове, взгляде, жесте видишь какое-то сплошное надругательство. Что я им сделал? Восемь лет служу, нет ни семьи, ни кола, ни двора. Все – в полку, в родном полку. Два раза искалечили, недолечился, прилетел в полк – на тебе! И солдата любил – мне стыдно самому говорить об этом, но ведь они помнят, как я не раз ползком из-под проволочных заграждений раненых вытаскивал… И вот теперь… Ну да, я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я приемлю революцию. Но для меня Россия бесконечно дороже революции. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить. Но ведь я никому не мешаю, никому не говорю об этом, никого не стараюсь разубедить. Лишь бы окончить честно войну, а потом хоть камни бить на дороге, только не в демократизованной таким манером армии. Вот мой прапорщик – он с ними обо всем рассуждает: национализация, социализация, рабочий контроль… А я не умею: некогда было этим заниматься, да признаться, и не интересовался никогда. Помните, приезжал командующий армией и в толпе солдат говорит: «какой там „господин генерал“ – зовите меня просто товарищ Егор»… А я этого не могу, да и все равно мне не поверят. Вот и молчу. А они понимают и мстят. И ведь, при всей своей серости, какие тонкие психологи! Умеют найти такое место, чтобы плевок был побольнее. Вот вчера, например…
Он наклонился над ухом Альбова и шёпотом продолжал:
– Возвращаюсь из собрания. У меня в палатке у изголовья карточка стоит: ну там одно дорогое воспоминание. Так пририсовали похабщину!..
Буравин встал и вытер платком лоб.
– Ну, пойдем посмотреть позицию… Даст Бог, недолго уже терпеть. Никто из роты не хочет идти на разведку. Хожу сам каждую ночь; иногда вольноопределяющий один со мной, – охотничья жилка у него. Если что-нибудь случится, пожалуйста, Альбов, присмотрите, чтобы пакетик один – он у меня в чемодане – отправили по назначению.
Рота, не дождавшись окончания смены, ушла вразброд. Альбов побрел вслед.
Ход сообщения кончался в широкой лощине, где стоял полковой резерв. Словно большой муравейник, раскинулся бивак полка рядом землянок, палаток, дымящихся походных кухонь и коновязей. Когда-то их тщательно маскировали искусственными посадками, которые теперь засохли, облетели и торчали безлистыми жердями. На поляне кой-где учились солдаты – вяло, лениво, как будто затем, чтобы создать какую-нибудь видимость занятий: все-таки совестно было абсолютно ничего не делать. Офицеров мало: хорошим опостылела та пошлая комедия, в которую превратилось теперь настоящее дело; у плохих есть нравственное оправдание их лени и безделия. Вдали, по дороге, в направлении к полковому штабу шла не то толпа, не то колонна, над которой развевались красные флаги. Впереди огромный транспарант, на котором белыми буквами красовалась видная издалека надпись:
«Долой войну!»
«Англичане хотят, чтобы русские пролили последнюю каплю крови для вящей славы Англии, которая ищет во всем барыша… Милые солдатики, вы должны знать, что Россия давно бы заключила мир, если бы этому не помешала Англия… Мы должны отшатнуться от нее – этого требует русский народ – такова его святая воля»…
Кто-то густо выругался:
– Как же, помирятся,…и…м…, подохнешь тут, не видавши воли…
По окопам прошел поручик Альбов, командующий ротой. Он как-то неуверенно, просительно обращался к группам солдат:
– Товарищи, выходите скорей на работу. В три дня мы не вывели ни одного хода сообщений в передовую линию.
Игравшие в карты даже не повернулись; кто-то вполголоса сказал «ладно». Читавший газету привстал и развязно доложил:
– Рота не хочет рыть, потому что это подготовка к наступлению, а комитет постановил…
– Послушайте, вы ни черта не понимаете, да и почему вы говорите за всю роту? Если даже ограничиться одной обороной, то ведь в случае тревоги мы пропадем: вся рота по одному ходу не успеет выйти в первую линию.
Сказал и, махнув рукой, прошел дальше. Безнадежно. Каждый раз, когда он пытается говорить с ними подолгу и задушевно – они слушают внимательно, любят с ним беседовать, и вообще, своя рота относится к нему по-своему хорошо. Но он чувствует, что между ним и ими стала какая-то глухая стена, о которую разбиваются все его добрые порывы. Он потерял дорогу к их душе, запутавшись в невылазных дебрях темноты, грубости и той волны недоверия и подозрительности, которая влилась в солдатскую среду. Не те слова, может быть, не умеет сказать? Как будто бы нет. Еще незадолго до войны, будучи студентом и увлекаясь народничеством, он бывал и в деревне, и на заводе и находил «настоящие» слова, всем доступные и понятные. А главное, какими словами заставишь людей идти на смерть, когда у них все чувства заслонило одно чувство – самосохранения. Мысли его прервало внезапное появление командира полка.
– Чёрт знает, что такое! Дежурный не встречает. Люди не одеты. Грязь, вонь. За чем вы смотрите, поручик?
Седой полковник суровым взглядом, невольно импонирующим, окинул солдат. Все повскакали. Он поглядел в бойницу и, отшатнувшись, нервно спросил:
– Это что такое?
На зеленом поле, между проволочными заграждениями шел настоящий базар. Группа немецких и наших солдат обменивали друг у друга водку, табак, сало, хлеб. Поодаль, на траве полулежал немецкий офицер – красный, плотный, с надменным выражением лица и вел беседу с солдатом Соловейчиком. И странно: фамильярный и дерзкий Соловейчик стоял перед лейтенатом прилично и почтительно.
Полковник оттолкнул наблюдателя и, взяв у него ружье, просунул в бойницу. Среди солдат послышался ропот. Стали просить не стрелять. Один вполголоса, как бы про себя, промолвил:
– Это провокация…
Полковник, красный от бешенства, повернулся на секунду к нему и крикнул:
– Молчать!
Все притихли и прильнули к бойницам. Раздался выстрел, и немецкий офицер как-то судорожно вытянулся и замер; из головы его потекла кровь. Торговавшие солдаты разбежались.
Полковник бросил ружье и, процедив сквозь зубы: «мерзавцы», пошел дальше по окопам. «Перемирие» было нарушено.
Поручик ушел к себе в землянку. Тоскливо и пусто на душе. Сознание своей ненужности и бесполезности, в этой нелепой обстановке, извращавшей весь смысл служения Родине, которое одно только оправдывало и все тяжелые невзгоды, и, может быть, близкую смерть, давило его. Он бросился на постель; лежал час, два, стараясь не думать ни о чем, забыться…
А из-за земляной стены, где было убежище, полз чей-то заглушенный голос и словно обволакивал мозг грязной мутью:
– Им хорошо, с. с-ам – получает как стеклышко сто сорок целковеньких в месяц, а нам – расщедрились – семь с полтиной отпустили. Погоди, будет еще наша воля…
Молчание.
– Слышно, землицу делят у нас в Харьковской. Домой бы…
Стук в дверь. Пришел фельдфебель.
– Ваше благородие (он всегда звал так своего ротного командира без свидетелей), рота сердится, грозят уйти с позиции, если сейчас не сменят. 2-ой батальон должен был сменить нас в 5 часов, а его и доселе нет. Нельзя ли спросить по телефону.
– Не уйдут, Иван Петрович… Хорошо, спрошу, да только теперь уже все равно поздно – после утреннего происшествия немцы смениться днем нам не позволят.
– Позволят. Комитетчики уже знают. Я так думаю, – он понизил голос, – Соловейчик успел сбегать объяснить. Слышно, что немцы обещали помириться, только чтобы следующий раз, когда придет в окопы командир, им дали знать – бросят бомбу. Вы бы доложили, а то неровен час…
– Хорошо.
Фельдфебель хотел уйти. Поручик остановил его.
– Плохо, Петрович, не верят нам…
– Да уж Бог его знает, кому они верят; вот на прошлой неделе в 6 роте сами фельдфебеля выбрали, а теперь над ним же измываются, слова сказать не дают…
– Что же будет дальше?
Фельдфебель покраснел и тихо ответил:
– А будет то, что Соловейчики над нами царствовать будут, а мы у них на положении, значит, скота бессловесного, – вот что будет, ваше благородие!..
Пришла, наконец, смена. Зашел в землянку командир 5 роты капитан Буравин. Альбов предложил ознакомить его с участком, и объяснить расположение противника.
– Пожалуй, хоть это не имеет значения, ибо я по существу ротой не командую – нахожусь под бойкотом.
– Как?
– Так. Выбрали ротным прапорщика, моего субалтерна, а меня сместили за приверженность к старому режиму – два раза в день, видите ли, занятия назначал – ведь маршевые роты приходят абсолютно необученные. Прапорщик первый и голосовал за мое удаление. «Довольно – говорит – нами помыкали. Теперь наша воля. Надо почистить всех, начиная с головы. С полком сумеет справиться и молодой, лишь бы был истинный демократ и стоял за солдатскую волю». Я бы ушел, но командир полка категорически воспротивился и не велит сдавать роты. Вот теперь у нас два командира, значит. Пять дней терплю это положение. Послушайте, Альбов, вы не торопитесь? Ну, прекрасно, поболтаем немного. Что-то тяжело на душе… Альбов, вам не приходила еще мысль о самоубийстве?
– Пока нет.
Буравин вскочил.
– Поймите, душу всю проплевали, над человеческим достоинством надругались – и так каждый день, каждый час, в каждом слове, взгляде, жесте видишь какое-то сплошное надругательство. Что я им сделал? Восемь лет служу, нет ни семьи, ни кола, ни двора. Все – в полку, в родном полку. Два раза искалечили, недолечился, прилетел в полк – на тебе! И солдата любил – мне стыдно самому говорить об этом, но ведь они помнят, как я не раз ползком из-под проволочных заграждений раненых вытаскивал… И вот теперь… Ну да, я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я приемлю революцию. Но для меня Россия бесконечно дороже революции. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить. Но ведь я никому не мешаю, никому не говорю об этом, никого не стараюсь разубедить. Лишь бы окончить честно войну, а потом хоть камни бить на дороге, только не в демократизованной таким манером армии. Вот мой прапорщик – он с ними обо всем рассуждает: национализация, социализация, рабочий контроль… А я не умею: некогда было этим заниматься, да признаться, и не интересовался никогда. Помните, приезжал командующий армией и в толпе солдат говорит: «какой там „господин генерал“ – зовите меня просто товарищ Егор»… А я этого не могу, да и все равно мне не поверят. Вот и молчу. А они понимают и мстят. И ведь, при всей своей серости, какие тонкие психологи! Умеют найти такое место, чтобы плевок был побольнее. Вот вчера, например…
Он наклонился над ухом Альбова и шёпотом продолжал:
– Возвращаюсь из собрания. У меня в палатке у изголовья карточка стоит: ну там одно дорогое воспоминание. Так пририсовали похабщину!..
Буравин встал и вытер платком лоб.
– Ну, пойдем посмотреть позицию… Даст Бог, недолго уже терпеть. Никто из роты не хочет идти на разведку. Хожу сам каждую ночь; иногда вольноопределяющий один со мной, – охотничья жилка у него. Если что-нибудь случится, пожалуйста, Альбов, присмотрите, чтобы пакетик один – он у меня в чемодане – отправили по назначению.
Рота, не дождавшись окончания смены, ушла вразброд. Альбов побрел вслед.
Ход сообщения кончался в широкой лощине, где стоял полковой резерв. Словно большой муравейник, раскинулся бивак полка рядом землянок, палаток, дымящихся походных кухонь и коновязей. Когда-то их тщательно маскировали искусственными посадками, которые теперь засохли, облетели и торчали безлистыми жердями. На поляне кой-где учились солдаты – вяло, лениво, как будто затем, чтобы создать какую-нибудь видимость занятий: все-таки совестно было абсолютно ничего не делать. Офицеров мало: хорошим опостылела та пошлая комедия, в которую превратилось теперь настоящее дело; у плохих есть нравственное оправдание их лени и безделия. Вдали, по дороге, в направлении к полковому штабу шла не то толпа, не то колонна, над которой развевались красные флаги. Впереди огромный транспарант, на котором белыми буквами красовалась видная издалека надпись:
«Долой войну!»