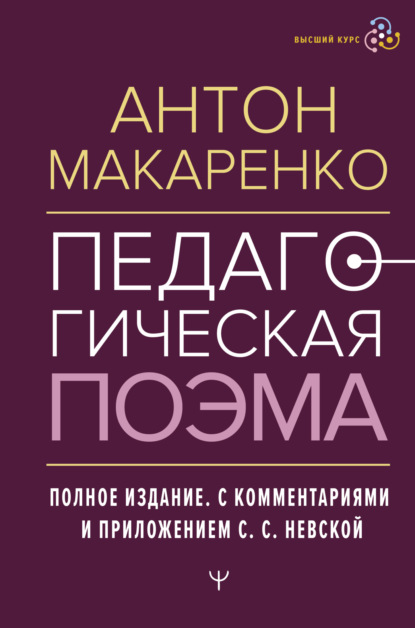По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Педагогическая поэма. Полное издание. С комментариями и приложением С. С. Невской
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И еще приняли мы воза два объемного фуража и пудов сорок овса.
Ни жив ни мертв ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозки и в конюшне работал, как богатырь.
Наконец я получил краткий, но выразительный запрос:
«Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает продналог.
Райпродкомиссар Агеев».
Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я мог ответить?
В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка, а в мой кабинет – перепуганный Братченко.
– Сюда идет, – сказал он, задыхаясь.
– Кто это?
– Мабудь, насчет соломы… Сердитый.
Он присел за печкой и притих.
Райпродкомиссар был обыкновенный: в кожаной куртке, с револьвером, молодой и подтянутый.
– Вы заведующий?
– Я.
– Вы получили мой запрос?
– Получил.
– Почему вы не отвечаете? Что это такое, я сам должен ехать! Кто вам разрешил принимать продналог?
– Мы принимали продналог без разрешения.
Райпродкомиссар соскочил со стула и заорал:
– Как это так – «без разрешения»? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы, знаете вы это?
Я это знал.
– Кончайте как-нибудь, – сказал я райпродкомиссару глухо, – ведь я не оправдываюсь и не выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным.
Он забегал по диагонали моего бедного кабинета.
– Черт знает что такое! – бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь.
Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица, райпродкомиссаром. Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел:
– Всякий бы не посмотрел, чи продналог, чи что, если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным четыре дня газеты читать, так бы вы влетели в колонию?
Агеев остановился удивленный:
– А ты кто такой? Тебе здесь что надо?
– Это наш старший конюх, он лицо более или менее заинтересованное, – сказал я.
Райпродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона:
– У вас хоть заприходовано? Черт знает что!..
Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал:
– Заприходовано ж, Антон Семенович?
Засмеялись и я и Агеев.
– Заприходовано.
– Где вы такого хорошего парня достали?
– Сами делаем, – улыбнулся я.
Братченко поднял глаза на райпродкомиссара и спросил серьезно, приветливо:
– Ваших вороных покормить?
– Что ж, покорми.
15. Осадчий
Зима и весна 1922 года были наполнены страшными взрывами в колонии имени Горького. Они следовали один за другим и почти без передышки, и в моей памяти сейчас сливаются в какой-то общий клубок несчастья.
Однако, несмотря на всю трагичность этих дней, они были днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить, но совмещались. Обычный день в колонии был и тогда прекрасным днем, полным труда, доверия, человеческого, товарищеского чувства и всегда – смеха, шутки, подъема и очень хорошего, бодрого тона. И почти не проходило недели, чтобы какая-нибудь совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму, в такую тяжелую цепь событий, что мы почти теряли нормальное представление о мире и делались больными людьми, воспринимающими мир воспаленными нервами.
Неожиданно у нас открылся антисемитизм. До сих пор в колонии евреев не было. Осенью в колонию был прислан первый еврей, потом один за другим еще несколько. Эти первые евреи были очень неудачны. В большинстве это были парни глупые, нечистоплотные и неактивные. Один из них почему-то раньше работал в губрозыске, и на него первого обрушился дикий гнев наших старожилов.
В проявлении антисемитизма я сначала не мог даже различить, кто больше, кто меньше виноват. Вновь прибывшие колонисты были антисемитами просто потому, что нашли безобидные объекты для своих хулиганских инстинктов, старшие же имели больше возможности издеваться и куражиться над евреями.
Фамилия первого была Остромухов.
Привел его милиционер как раз во время обеденного перерыва в холодный и вьюжный неприветливый день. Остромухову не повезло с самого начала. Только что он со своим конвоиром вышел из лесу на нашу поляну, их заметил Карабанов. Присмотрелся внимательно и узнал: тот самый Остромухов, который когда-то из губрозыска водил его к следователю. Этого оскорбления не могло забыть его бандитское сердце: вот такой маленький, незаметный, чахоточный Остромухов осмелился конвоировать его, Карабанова, «з дида, з прадида» казака.
Увидев Остромухова, Карабанов взвел курок и закричал:
– О, держите меня, я его убью!
Услышав боевой возглас Карабанова, Остромухов, забыв о милиционере, моментально повернулся и побежал в лес. Растерявшийся милиционер схватился за револьвер, но Карабанов сказал ему с особенным выражением бандитской экспрессии:
Ни жив ни мертв ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозки и в конюшне работал, как богатырь.
Наконец я получил краткий, но выразительный запрос:
«Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает продналог.
Райпродкомиссар Агеев».
Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я мог ответить?
В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка, а в мой кабинет – перепуганный Братченко.
– Сюда идет, – сказал он, задыхаясь.
– Кто это?
– Мабудь, насчет соломы… Сердитый.
Он присел за печкой и притих.
Райпродкомиссар был обыкновенный: в кожаной куртке, с револьвером, молодой и подтянутый.
– Вы заведующий?
– Я.
– Вы получили мой запрос?
– Получил.
– Почему вы не отвечаете? Что это такое, я сам должен ехать! Кто вам разрешил принимать продналог?
– Мы принимали продналог без разрешения.
Райпродкомиссар соскочил со стула и заорал:
– Как это так – «без разрешения»? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы, знаете вы это?
Я это знал.
– Кончайте как-нибудь, – сказал я райпродкомиссару глухо, – ведь я не оправдываюсь и не выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным.
Он забегал по диагонали моего бедного кабинета.
– Черт знает что такое! – бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь.
Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица, райпродкомиссаром. Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел:
– Всякий бы не посмотрел, чи продналог, чи что, если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным четыре дня газеты читать, так бы вы влетели в колонию?
Агеев остановился удивленный:
– А ты кто такой? Тебе здесь что надо?
– Это наш старший конюх, он лицо более или менее заинтересованное, – сказал я.
Райпродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона:
– У вас хоть заприходовано? Черт знает что!..
Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал:
– Заприходовано ж, Антон Семенович?
Засмеялись и я и Агеев.
– Заприходовано.
– Где вы такого хорошего парня достали?
– Сами делаем, – улыбнулся я.
Братченко поднял глаза на райпродкомиссара и спросил серьезно, приветливо:
– Ваших вороных покормить?
– Что ж, покорми.
15. Осадчий
Зима и весна 1922 года были наполнены страшными взрывами в колонии имени Горького. Они следовали один за другим и почти без передышки, и в моей памяти сейчас сливаются в какой-то общий клубок несчастья.
Однако, несмотря на всю трагичность этих дней, они были днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить, но совмещались. Обычный день в колонии был и тогда прекрасным днем, полным труда, доверия, человеческого, товарищеского чувства и всегда – смеха, шутки, подъема и очень хорошего, бодрого тона. И почти не проходило недели, чтобы какая-нибудь совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму, в такую тяжелую цепь событий, что мы почти теряли нормальное представление о мире и делались больными людьми, воспринимающими мир воспаленными нервами.
Неожиданно у нас открылся антисемитизм. До сих пор в колонии евреев не было. Осенью в колонию был прислан первый еврей, потом один за другим еще несколько. Эти первые евреи были очень неудачны. В большинстве это были парни глупые, нечистоплотные и неактивные. Один из них почему-то раньше работал в губрозыске, и на него первого обрушился дикий гнев наших старожилов.
В проявлении антисемитизма я сначала не мог даже различить, кто больше, кто меньше виноват. Вновь прибывшие колонисты были антисемитами просто потому, что нашли безобидные объекты для своих хулиганских инстинктов, старшие же имели больше возможности издеваться и куражиться над евреями.
Фамилия первого была Остромухов.
Привел его милиционер как раз во время обеденного перерыва в холодный и вьюжный неприветливый день. Остромухову не повезло с самого начала. Только что он со своим конвоиром вышел из лесу на нашу поляну, их заметил Карабанов. Присмотрелся внимательно и узнал: тот самый Остромухов, который когда-то из губрозыска водил его к следователю. Этого оскорбления не могло забыть его бандитское сердце: вот такой маленький, незаметный, чахоточный Остромухов осмелился конвоировать его, Карабанова, «з дида, з прадида» казака.
Увидев Остромухова, Карабанов взвел курок и закричал:
– О, держите меня, я его убью!
Услышав боевой возглас Карабанова, Остромухов, забыв о милиционере, моментально повернулся и побежал в лес. Растерявшийся милиционер схватился за револьвер, но Карабанов сказал ему с особенным выражением бандитской экспрессии: