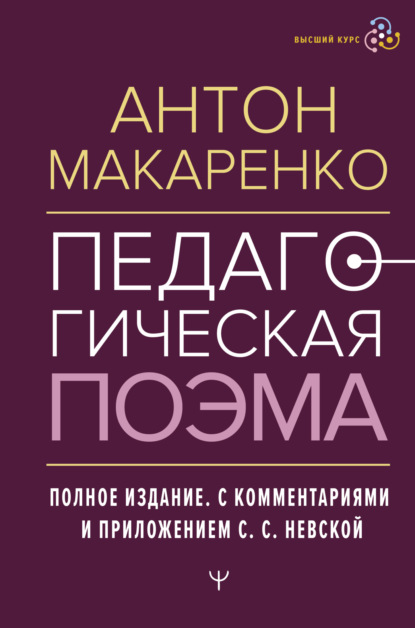По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Педагогическая поэма. Полное издание. С комментариями и приложением С. С. Невской
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какое его дело, куда мы идем? Чего он палит?
Еще через день Белухин меня предупредил:
– С этим дедом добром не кончится. Здорово хлопцы обижаются. Дед уже боится сидеть в курене, с ним еще двое дежурят, и все с ружьями. А хлопцы этого вытерпеть не могут.
В ту же ночь колонисты пошли на этот баштан цепью. Мои занятия по военному делу пошли на пользу. В полночь половина колонии залегла на меже баштана, вперед выслали дозоры и разведку. Когда деды подняли тревогу, хлопцы закричали «ура» и кинулись в атаку. Сторожа отступили в лес и в панике забыли в курене ружья. Часть ребят занялась реализацией победы, скатывая арбузы к меже под горку, остальные приступили к репрессиям: подожгли огромный курень.
Один из сторожей прибежал в колонию и разбудил меня. Мы поспешили к месту боя.
Курень на горке полыхал огромным костром, и от него стояло такое зарево, как будто горело целое село. Когда мы подбежали к баштану, на нем раздалось несколько выстрелов. Я увидел колонистов, залегших правильными отделениями в арбузных зарослях. Иногда эти отделения поднимались на ноги и перебегали к горящему куреню. Где-то на правом фланге командовал Митягин:
– Не лезь прямо, заходи сбоку.
– Кто это стреляет? – спросил я деда.
– Да кто его знает? Там же никого нэма. Мабуть, то винтовку хтось забув, мабуть, то винтовка сама стреляет.
Дело было, собственно говоря, закончено. Увидев меня, ребята как сквозь землю провалились. Дед повздыхал и ушел домой. Я возвратился в колонию. В спальнях был мертвый покой. Все не только спали, но даже храпели: никогда в жизни не слышал такого храпа. Я сказал негромко:
– Довольно дурака валять, вставайте.
Храп прекратился, но все продолжали настойчиво спать.
– Вставайте, вам говорят.
С подушек поднялись лохматые головы. Митягин глядел на меня и не узнавал:
– В чем дело?
Но Карабанов не выдержал:
– Да брось, Митяга, чего там!
Все меня обступили и начали с увлечением рассказывать о подробностях доблестной ночи. Таранец вдруг подпрыгнул, как обваренный:
– Там же в курене ружья!
– Сгорели…
– Дерево сгорело, а то все годится.
И вылетел из спальни.
Я сказал:
– Может быть, это все и весело, но все-таки это настоящий разбой. Я больше терпеть не могу. Если вы хотите продолжать так и дальше, нам будет не по дороге. Что это такое в самом деле: ни днем, ни ночью нет покоя ни колонии, ни всей округе!
Карабанов схватил меня за руку:
– Больше этого не будет. Мы и сами видим, что довольно. Правда ж, хлопцы?
Хлопцы загудели что-то подтверждающее.
– Это все слова, – сказал я. – Предупреждаю, что если все эти разбойничьи дела будут повторяться, я кое-кого выставлю из колонии. Так и знайте, больше повторять не буду.
На другой день на пострадавший баштан приехали подводы, собрали все, что на нем еще осталось, и уехали.
На моем столе лежали дула и мелкие части сгоревших ружей.
24. Ампутация
Ребята не сдержали своего обещания. Ни Карабанов, ни Митягин, ни другие участники группы не прекратили ни походов на баштаны, ни нападений на каморы и погреба селян. Наконец, они организовали новое, очень сложное предприятие, которое увенчалось целой какофонией приятных и неприятных вещей.
Однажды ночью они залезли на пасеку Луки Семеновича и утащили два улья вместе с медом и пчелами. Ульи они принесли в колонию ночью и поместили их в сапожную мастерскую, в то время не работавшую. На радостях устроили пир, в котором принимали участие многие колонисты. Наутро можно было составить точный реестр участников, – все они ходили по колонии с красными, распухшими физиономиями. Лешему пришлось даже обратиться за помощью к Екатерине Григорьевне.
Вызванный в кабинет Митягин с первого слова признал дело за собой, отказался назвать участников и, кроме того, удивился:
– Ничего тут такого нет! Не себе взяли улья, а принесли в колонию. Если вы считаете, что в колонии пчеловодство не нужно, можно и отнести.
– Что ты отнесешь? Мед съели, пчелы пропали.
– Ну, как хотите. Я хотел как лучше.
– Нет, Митягин, лучше всего будет, если ты оставишь нас в покое… Ты уже взрослый человек, со мной ты никогда не согласишься, давай расстанемся.
– Я и сам так думаю.
Митягина необходимо было удалить как можно скорее. Для меня было уже ясно, с этим решением я непростительно затянул и прозевал давно определившийся процесс гниения нашего коллектива. Может быть, ничего особенно порочного и не было в баштанных делах или в ограблении пасеки, но постоянное внимание колонистов к этим делам, ночи и дни, наполненные все теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную остановку развития нашего тона, знаменовали, следовательно, застой. И на фоне этого застоя для всякого пристального взгляда уже явными сделались непритязательные рисунки: развязность колонистов, какая-то специальная колонистская вульгарность по отношению и к колонии, и к делу, утомительное и пустое зубоскальство, элементы несомненного цинизма. Я видел, что даже такие, как Белухин и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщине, начинали терять прежний блеск личности, покрывались окалиной. Наши планы, интересная книга, политические вопросы стали располагаться в коллективе на каких-то далеких флангах, уступив центральное место беспорядочным дешевым приключениям и бесконечным разговорам о них. Все это отразилось и на внешнем облике колонистов и всей колонии: разболтанное движение, неопрятный и неглубокий позыв к остроумию, небрежно накинутая одежда и припрятанная по углам грязь.
Я написал Митягину выпускное удостоверение, дал пять рублей на дорогу – он сказал, что едет в Одессу, – и пожелал ему счастливого пути.
– С хлопцами попрощаться можно?
– Пожалуйста.
Как они там прощались, не знаю. Митягин ушел перед вечером, и провожала его почти вся колония.
Вечером все ходили печальные, малыши потускнели, и у них испортились движущие их мощные моторы. Карабанов как сел на опрокинутом ящике возле кладовки, так и не вставал с него до ночи.
В мой кабинет пришел Леший и сказал:
– А жалко Митягу.
Он долго ждал ответа, но я ничего не ответил Лешему. Так он и ушел.
Занимался я очень долго. Часа в два, выходя из кабинета, я заметил свет на чердаке конюшни. Разбудил Антона и спросил:
– Кто на чердаке?
Еще через день Белухин меня предупредил:
– С этим дедом добром не кончится. Здорово хлопцы обижаются. Дед уже боится сидеть в курене, с ним еще двое дежурят, и все с ружьями. А хлопцы этого вытерпеть не могут.
В ту же ночь колонисты пошли на этот баштан цепью. Мои занятия по военному делу пошли на пользу. В полночь половина колонии залегла на меже баштана, вперед выслали дозоры и разведку. Когда деды подняли тревогу, хлопцы закричали «ура» и кинулись в атаку. Сторожа отступили в лес и в панике забыли в курене ружья. Часть ребят занялась реализацией победы, скатывая арбузы к меже под горку, остальные приступили к репрессиям: подожгли огромный курень.
Один из сторожей прибежал в колонию и разбудил меня. Мы поспешили к месту боя.
Курень на горке полыхал огромным костром, и от него стояло такое зарево, как будто горело целое село. Когда мы подбежали к баштану, на нем раздалось несколько выстрелов. Я увидел колонистов, залегших правильными отделениями в арбузных зарослях. Иногда эти отделения поднимались на ноги и перебегали к горящему куреню. Где-то на правом фланге командовал Митягин:
– Не лезь прямо, заходи сбоку.
– Кто это стреляет? – спросил я деда.
– Да кто его знает? Там же никого нэма. Мабуть, то винтовку хтось забув, мабуть, то винтовка сама стреляет.
Дело было, собственно говоря, закончено. Увидев меня, ребята как сквозь землю провалились. Дед повздыхал и ушел домой. Я возвратился в колонию. В спальнях был мертвый покой. Все не только спали, но даже храпели: никогда в жизни не слышал такого храпа. Я сказал негромко:
– Довольно дурака валять, вставайте.
Храп прекратился, но все продолжали настойчиво спать.
– Вставайте, вам говорят.
С подушек поднялись лохматые головы. Митягин глядел на меня и не узнавал:
– В чем дело?
Но Карабанов не выдержал:
– Да брось, Митяга, чего там!
Все меня обступили и начали с увлечением рассказывать о подробностях доблестной ночи. Таранец вдруг подпрыгнул, как обваренный:
– Там же в курене ружья!
– Сгорели…
– Дерево сгорело, а то все годится.
И вылетел из спальни.
Я сказал:
– Может быть, это все и весело, но все-таки это настоящий разбой. Я больше терпеть не могу. Если вы хотите продолжать так и дальше, нам будет не по дороге. Что это такое в самом деле: ни днем, ни ночью нет покоя ни колонии, ни всей округе!
Карабанов схватил меня за руку:
– Больше этого не будет. Мы и сами видим, что довольно. Правда ж, хлопцы?
Хлопцы загудели что-то подтверждающее.
– Это все слова, – сказал я. – Предупреждаю, что если все эти разбойничьи дела будут повторяться, я кое-кого выставлю из колонии. Так и знайте, больше повторять не буду.
На другой день на пострадавший баштан приехали подводы, собрали все, что на нем еще осталось, и уехали.
На моем столе лежали дула и мелкие части сгоревших ружей.
24. Ампутация
Ребята не сдержали своего обещания. Ни Карабанов, ни Митягин, ни другие участники группы не прекратили ни походов на баштаны, ни нападений на каморы и погреба селян. Наконец, они организовали новое, очень сложное предприятие, которое увенчалось целой какофонией приятных и неприятных вещей.
Однажды ночью они залезли на пасеку Луки Семеновича и утащили два улья вместе с медом и пчелами. Ульи они принесли в колонию ночью и поместили их в сапожную мастерскую, в то время не работавшую. На радостях устроили пир, в котором принимали участие многие колонисты. Наутро можно было составить точный реестр участников, – все они ходили по колонии с красными, распухшими физиономиями. Лешему пришлось даже обратиться за помощью к Екатерине Григорьевне.
Вызванный в кабинет Митягин с первого слова признал дело за собой, отказался назвать участников и, кроме того, удивился:
– Ничего тут такого нет! Не себе взяли улья, а принесли в колонию. Если вы считаете, что в колонии пчеловодство не нужно, можно и отнести.
– Что ты отнесешь? Мед съели, пчелы пропали.
– Ну, как хотите. Я хотел как лучше.
– Нет, Митягин, лучше всего будет, если ты оставишь нас в покое… Ты уже взрослый человек, со мной ты никогда не согласишься, давай расстанемся.
– Я и сам так думаю.
Митягина необходимо было удалить как можно скорее. Для меня было уже ясно, с этим решением я непростительно затянул и прозевал давно определившийся процесс гниения нашего коллектива. Может быть, ничего особенно порочного и не было в баштанных делах или в ограблении пасеки, но постоянное внимание колонистов к этим делам, ночи и дни, наполненные все теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную остановку развития нашего тона, знаменовали, следовательно, застой. И на фоне этого застоя для всякого пристального взгляда уже явными сделались непритязательные рисунки: развязность колонистов, какая-то специальная колонистская вульгарность по отношению и к колонии, и к делу, утомительное и пустое зубоскальство, элементы несомненного цинизма. Я видел, что даже такие, как Белухин и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщине, начинали терять прежний блеск личности, покрывались окалиной. Наши планы, интересная книга, политические вопросы стали располагаться в коллективе на каких-то далеких флангах, уступив центральное место беспорядочным дешевым приключениям и бесконечным разговорам о них. Все это отразилось и на внешнем облике колонистов и всей колонии: разболтанное движение, неопрятный и неглубокий позыв к остроумию, небрежно накинутая одежда и припрятанная по углам грязь.
Я написал Митягину выпускное удостоверение, дал пять рублей на дорогу – он сказал, что едет в Одессу, – и пожелал ему счастливого пути.
– С хлопцами попрощаться можно?
– Пожалуйста.
Как они там прощались, не знаю. Митягин ушел перед вечером, и провожала его почти вся колония.
Вечером все ходили печальные, малыши потускнели, и у них испортились движущие их мощные моторы. Карабанов как сел на опрокинутом ящике возле кладовки, так и не вставал с него до ночи.
В мой кабинет пришел Леший и сказал:
– А жалко Митягу.
Он долго ждал ответа, но я ничего не ответил Лешему. Так он и ушел.
Занимался я очень долго. Часа в два, выходя из кабинета, я заметил свет на чердаке конюшни. Разбудил Антона и спросил:
– Кто на чердаке?