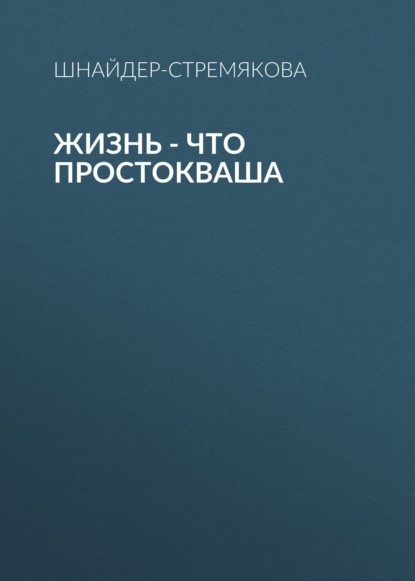По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь – что простокваша
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На другой день интересовалась: «Полегчало?»
– Не видишь разве? Опухоли почти нет, да и боль стала меньше.
Несколько раз повторив процедуры, бабка Василиха вылечила ноги мамы. С тех пор в семье у нас относились к ней с глубоким уважением: «А если и вправду, как говорят в деревне, она способна напустить порчу? Не обижайте её».
Мы не обижали.
Сондрик
Радуясь, что наш заречный домик наполнился жизнью, мы вместе с мамой к концу недели сходили к няне на бахчу Немного погодя заявились Лиля с Сашей.
– Тяжело одной, не успеваю. Помогите, – просила няня, – у вас руки молодые.
Мама с няней тихо разговаривали в шалаше, а мы, четверо детей, весело рвали сорняки, когда вдали запылил ходок[4 - Ходок – лёгкая на колёсах повозка на двоих – элитный вид транспорта в сельской местности в первой половине XX века.] председателя. Кучер остановил лошадь.
– Вы чьи? Шо робытэ? Хто послав? – грозно спросил Сондрик, развалясь в коляске.
– Мамины. Бабушке помогаем, – сбросила я оцепенение.
– А мать дэ?
– В шалаше.
Мама и няня уже выходили навстречу.
– Цэ шо? Уси твои? – обратился он к маме.
– Нет, мои только близняшки. Это племянники, Марусины дети.
– Ну, ладно, хай помогають. Прыихав я, бабка, за арбузАмы. Балакають, шо ты усих гонышь, так я сам… Наложь-ка мыни повный ходок!
– На трудодень выдавать?
– На трудодни… На трудодни, – скорее проворчал он.
– Хай кучер за мной идти, буду показать, какой рвать! – приказала няня.
Нагружённый доверху ходок удалялся от бахчи.
– Врёт, что на трудодни, – глядя вслед, сообразила она уже по-немецки. – Завтра отправлюсь к деду Левченко в контору и спрошу, будут ли выдавать на трудодни арбузы.
– Брось, Лизбет-вейзел, не твоё это дело. Ты не просто спецпереселенка, ты немка! Серьёзно тебя никто не воспримет.
– Не могу больше! Детей – и то ограничиваю… Всё думаю – на трудодни людям. С твоим приездом съели больше других – согрешила. Душа болит… А он?.. Последнее лето работаю. Пусть хоть как уговаривают! Ну его к чёрту, этот колхоз – прости меня, Господи, согрешила. Буду дома!
Слово своё няня сдержала: принуждать работать 56-летнюю не имели права. Домашних дел было достаточно – убирала, чистила, варила, стирала. Если бы не она, маленькая, не блестевшая здоровьем мама долго не выдержала. Ещё на Волге, в Мариентале, няня вязала для церкви, а сейчас – красивые кружевные воротнички для нас с Изой и шторы на окна.
Мы с Изой снова хаживали в куспром и заворожённо слушали пение женщин. Иногда заходил Сондрик.
– Знов спиваетэ? Глядыть у мэнэ! Ны будэшь, Элла, план выполнять – знов у трудармию отправлю.
Мама молчала, а горбатенькая Дуня, лукаво умасливая Сондрика, смеялась сладким, звонким голосом:
– Шо ты, Илья Кузьмич, пужаешь? Мы ж знаем, шо правление рядом, шо ты слышишь. Вот и стараемся… тебя ублажить!
– Ну, смотрыть! – не то одобряя, не то осуждая, бубнил он и удалялся.
Женщины подавленно продолжали работу. Шили бушлаты, ватные штаны и шапки для армии, были довольны – легче, чем в поле. Часто наезжало районное начальство и привозило для реставрации личные вещи, шёлковые и шерстяные. Женщины с руганью бросали в угол эту неоплачиваемую работу – из шерстяных вещей летело много пыли и грязи. Грозясь закрыть куспром, Сондрик прерывал возмущения:
– Ой, Элла, трудармия по тоби плачэ…
Заплаканная, уставшая и мрачная, она в такие дни подолгу шепталась вечерами с няней. Мы не понимали, что причиной маминых переживаний был безграмотный, но всемогущий Сондрик.
Из районного центра приходили иногда секретные письма. Гриф «секретно» он научился различать, и, если в правлении бывали люди, все срочно выпроваживались:
– Ну-ка – марш отсюда к ядрёной фене! Топчуться! Делать йим ничого! – и к деду Левченко. – Тут, дид, бумага прыйшла, заткны ухи и читай!
Сдерживая смех, дед затыкал уши и читал нарочито громко. Невдомёк было Сондрику, что гриф «секретно» первым «расшифровывал» дед. Стоявшие за дверью прыскали в ладоши.
– Тильки проболтайся – в Колыму отправлю! – возвращал Сондрик в конверт «секретное» письмо.
– Да я ж уши затыкал, ничего не слышал! – лукавил старик.
В Колыму Сондрик отправил многих, в том числе и Варю Честнейше. Двадцать пять получила она только за то, что у неё под платьем нашли торбочку с пшеницей. Детей Вари – четырёхлетнего Колю и десятилетнего Борю – отправили в детский дом. Все в округе оплакивали их и жалели Варю.
Вернувшиеся с войны мужчины затеяли против зверств Сондрика судебное дело. Он получил 25 лет колонии строгого режима, но через полгода был выпущен по амнистии, приехал в Кучук за семьёй и куда-то исчез. Говорили, будто бы жил припеваючи в соседнем районе.
В селе поминали его недобрым словом.
Сабантуй
В один из вечеров 1944-го, когда мама вернулась с работы, к нам в заречный домик заявилась младшая сестра дедушки Сандра, тётя Вера, – её 5-летняя Алма была годом моложе. По-русски тётя Вера говорила, как и альтмама, плохо. Несмотря на то, что умерла она в 8о лет и жизнь прожила среди русских, языком так и не овладела и до конца жизни употребляла вперемешку немецкие и русские слова. Получалось смешно и непонятно, но соседи научились понимать этот язык, привязались к ней и часто для смеха цитировали её. Она не обижалась.
Мешая немецкие и русские слова, тётя Вера протараторила ещё с порога:
– Уборка ist zu Ende, в воскресенье am Abend im клуб wird сабантуй. Анна Пасюта sagt, daB sie hann gesucht ein хорош гармонист und es wird viel Spas! Zum SchluB – много, богато und gutes Abendessen. Ich mochte ja хоть раз mich satt essen, что должно было означать:
– Закончилась уборка и в воскресенье вечером в клубе сабантуй. Анна Пасюта говорит, что нашли хорошего гармониста и будет весело! А в конце главное – богатый, сытый ужин. А так хочется поесть вкусно и наесться от пуза!
– Не уговаривай, Вера, – не пойду.
– Почему? Вы вон как хорошо в куспроме поёте! Да и танцевать ты любишь!
– Неужто не понимаешь, что нас там не ждут?
– Элла! – взмолилась добродушная тётя. – Ты и говоришь по-русски, и уважают тебя, пойдём! Детей возьмём. Уж детей-то пожалеют, не выгонят!
Она ещё долго убеждает маму, но уходит, так и не получив согласия. Наступило воскресенье. К вечеру тётя Вера заявилась с Алмой и с порога весело начала: