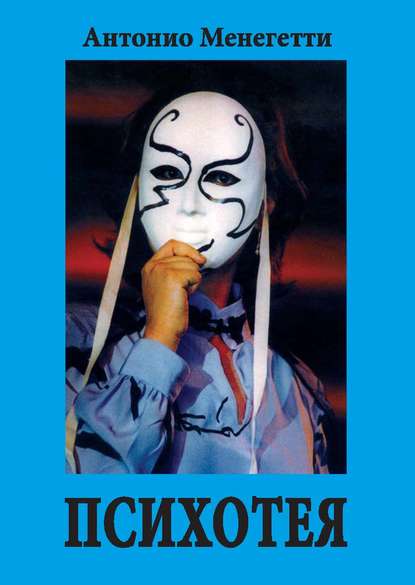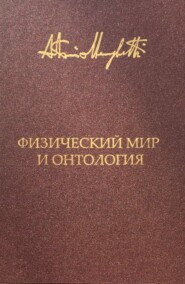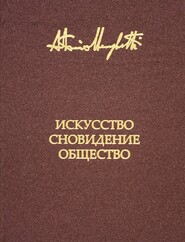По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психотея
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сын является соучастником материнской перверсии. Используя его преданность, мать предоставляет ему гарантию уверенности и безопасности и воспринимается сыном как единственный источник жизни. Он принимает ее с целью обеспечения себя всем лучшим в наиболее короткие сроки, но таким образом становится рабом, аннулирует любую возможность самореализации среди других.
Став взрослым, на основе комплексуального тематического отбора он выберет или будет выбран женщиной, которая предложит ему те же материнские модальности. Если мать попытается освободиться из ловушки, в которой она сама является первой жертвой, он начнет предпринимать действия, чтобы вернуть ее к механизму негативности. В конце концов, первой расплачивается сама женщина, мужчина же, сохраняя потенциал к смерти, будет продолжать свое существование в незнании, но под сообщнической защитой общественной морали.
5) Итог трагедии «Царь Эдип».
Хор:
О страшное свершивший!
Как дерзнул
Ты очи погасить? Внушили боги?
Эдип:
Аполлон решил, родные!
Завершил мои он беды!
Глаз никто не поражал мне, —
Сам глаза я поразил.
Последние строки трагедии.
Хор:
И назвать счастливым можно,
очевидно, лишь того,
Кто достиг предела жизни, в ней
несчастий не познав.
В некоторых трагедиях хор выступает как подтверждение суждений главного героя: действие социального «Сверх-Я» наносит милостивый удар по индивиду, который находится в шаге от вынесения приговора самому себе.
Наконец, появляется подлинное главное действующее лицо трагедии – Аполлон, имя которого вовсе не случайно означает «причина разрушения». Deus ex machina появляется, чтобы присутствовать при драматической развязке, он наблюдает за трагическим исходом марионеток, исполнявших его замысел. Подобный мотив встречается не только в трагедии Софокла «Царь Эдип», он присущ всем произведениям великих трагиков. У Эсхила и Софокла присутствие бога лишь подразумевается, у Еврипида божество выходит на сцену. Следовательно, человек – несвободен, его жизнь программируется и упорядочивается началом, подобным вечным законам космоса или сверхчеловеческим силам, гарантирующим нерушимый порядок правосудия. И все же греки почитали богов, создавали их статуи, развивали культ.
Эдип противоречит самому себе: сначала он усматривает причину своих злоключений в Аполлоне. Затем обвиняет самого себя: кажется, будто в какой-то миг, по рассеянности, он открывает истину, но тотчас же берет себя в руки и отвлекает внимание слушателей от сказанного.
Проведенное с помощью онтопсихологического критерия исследование позволяет определить причину, расшифровывая ее следствия и отслеживая скрытое в словах индивида послание. Во имя и по воле божества люди выносят боль и страдания, отказываясь от самих себя. В таком акте, рассмотренном как символ, обнаруживается присутствие чужеродного механизма, который, уподобляясь жизни, внедряется в человека, вызывая в нем расщепление. Неважно, как именовать этот механизм – богом, змием, дьяволом, мистерией или еще как-нибудь. Единственной реальностью представляется исполнение компьютерной программы, направленной на разрушение.
И хотя Эдип до последней минуты лжет, в конце он открывает единственную истину: разрушительное начало предваряет существование Эдипа, матери, отца, предваряет любое решение. Каждый из них воплощает то, что ему отведено по плану сюжета, в котором царская семья убивает двоих и программирует третьего.
Эдип «с распухшими ногами» – это человеческое существо, которое еще прежде своего появления на свет несло код деформирующей программы, требующей исполнения. Эдип верит, что это он решает то, что в действительности уже решено, верит в то, что он убивает вне себя чудовище, сидящее на самом деле в нем самом: перед нами человек, который убивает отца и выгораживает женщину, приведшую его к катастрофе.
Иокаста, ставшая врагом самой себе, раздвоенная, расщепленная, рабыня своего внутреннего мира, хранит базовую матрицу разрушения себя и других. Это женщина, неизбежно приходящая к самоубийству – окончательному свидетельству ее реальности, коей является смерть.
На самом деле, эдипов комплекс является чуждой человеку программой, а ее активирующим ядром выступает фигура матери. Человек предпочитает именно эту фигуру, поскольку мать становится для обращенного к ней малыша наиболее ярким проводником жизни. Через материнскую фигуру происходит внедрение в ребенка монитора отклонения (на основе зрительной аффективности и установленной рефлективной матрицы)[3 - См. Онтопсихологическая теория личности в книге Менегетти А. Учебник по онтопсихологии. Указ. соч.]. В дальнейшем монитор отклонения становится автономным в зависимом организме, который вынужден навязчиво повторять матрицу. Таким образом, семья становится самой благодатной почвой для внедрения стереотипности монитора отклонения. Под «семьей» следует понимать квартал, церковный приход, кружок, то есть любой контекст, в котором существуют фигура взрослого-матери и ответное действие аффективно от нее зависимых.
Эдип винит Аполлона, но сколько раз мы слышали такие высказывания: «Да исполнится воля божья» или «Это веление бога?». За так называемым смирением скрывается инфантильность человека, проявляющаяся в двуликой ситуации – желанной и навязанной одновременно. Ослепление Эдипа символизирует три аспекта реальности: это человек, который не видел, не хотел видеть и не должен был видеть ничего, кроме близости с матерью.
Слов Эдипа недостаточно; только оставшись наедине с собой, он сможет все понять. Ему нельзя позволить умереть, потому что тогда игра закончится. Люди дорожат своей жизнью, смерть близкого тревожит их. А Эдип еще может послужить, иначе как показать тех, кто будет заботиться о бедном слепом старике? И он уходит – изгнанный, оборванный, жалующийся на невзгоды своей судьбы. Люди уважают слепых, считают их мудрыми. И действительно, Эдип добрел до Колона[4 - Странное название города ассоциируется с колонизацией.], где снискал славу мудреца и героя, пользуясь жалостью тех, кто его встретил и к нему прислушался.
Машина уже притворилась человеком, отпечатавшись на его челе. Теперь она достигнет Колона, где под прикрытием мощного оружия – мудрости – приумножит свои жертвы и обретет новых сторонников. Так будет до тех пор, пока люди не прозреют.
1.4.2. Краткие выводы
Итак, я бы дал следующее объяснение трагедии «Царь Эдип» и эдипову комплексу: человек, погрязший в семейственности, материнском расположении, становится слепым. Я не разделяю интерпретацию Фрейда, поскольку великие греческие драматурги были ко всему прочему выдающимися философами, теологами и метафизиками. Фрейд с его точкой зрения не мог уловить точности и аутентичности Софокла, Еврипида и Эсхила.
Фрейдовский анализ трагедии «Царь Эдип», сюжет которой в том или ином виде перенят всеми драматургами, начиная с Шекспира с его «Гамлетом» и «Макбетом», задал ошибочное прочтение из-за материнского комплекса Фрейда по отношению к его родной матери.
«Царь Эдип» – это не столько проявление сексуальности сына в отношениях с матерью, сколько констатация факта, что любой мужчина, достойный стать великим, замыкается в семейственном круге и впоследствии теряет способность видеть. Эдипу не удается встать на путь выдающегося человека, учителя, царя. Он остается во власти материнского семейно-прародительского дома. Ребенок, который не достигает психологической взрослости, не оставляет семью и не становится «продуктивным действием» в обществе, утрачивает онтическое видение.
Лидерский потенциал субъекта уменьшается и прекращает развитие под воздействием всего, что складируется, редуцируется, отдается в залог, интровертируется в семейственной утробе на протяжении поколений, всего, что подавляется, а затем выливается в преступность и патологию.
1.5. Актер и интенциональность на сцене
Можно исследовать фигуру актера[5 - В контексте данной книги понятие «актер» рассматривается в широком смысле слова без технического разделения на две категории – актеров и исполнителей роли. Актерами являются, например, Альберто Сорди или Джон Уэйн: это персонажи, которые всегда сохраняют свою идентичность и проявляют ее в многочисленных ролях. Джон Уэйн – это всегда Джон Уэйн: сперва мы видим личность, а затем роль, которую он играет. В определенном смысле актер уже одарен от природы. Исполнитель же – это тот, кто проходит становление в зависимости от воплощаемой роли. Исполнительство требует большего искусства, школы, техники. Мы видим исполнителя в роли и не узнаем его, потому что исполнитель – это в первую очередь персонаж, за которым впоследствии видна личность.] на двух уровнях:
1) на уровне анализа различных структур, эстетики, рационального содержания, проксемики, профессионализма, психологии, взывая к систематизированности с позиций сознательной интенциональности;
2) а также на уровне анализа, нацеленного на поиск динамической точки выражения, бессознательного содержания сценической деятельности.
Мы проведем анализ второго типа, то есть учтем все, что было сказано по данной теме в исследованиях, посвященных актерскому искусству, и пойдем дальше.
Каждый спектакль есть взаимодействие между предъявленным значением и актером. В театре значение передается актером при содействии режиссера; в фильме – посредством образов выдуманной реальности, выстроенных актером. Я не ставлю себе задачей поиск различий между театром и кино, однако ясно, что в театральном действе актер кожей ощущает контакт со зрителем, физически модулирует взаимодействие, управляет связью «актер-зритель», которой и характеризуется театр. Именно актер посредством своего особого способа «бытия» на сцене определяет, какое послание и смысл предъявлять зрителю. Театральная реальность строится на семантическом поле актера во взаимодействии с публикой.
Основополагающая точка связи «актер-зритель» лежит в поле бессознательного, там, где происходит движение и модулирование психической интенциональности – первичной или динамической причины, структурирующей реальность. В финальном гештальте спектакля вступают во взаимодействие три типа интенциональности. Опустим намерение автора текста, поскольку режиссер и актер, выбирая конкретный текст, перенимают это намерение. Выбор текста обусловлен сходством потребностей всех троих.
На первом месте оказывается интенциональность режиссера, который использует все средства (актеров, сцену, музыку, свет, хореографию, грим, монтаж, план постановки), чтобы выразить вовне свое сознание и бессознательное. Создавая спектакль, режиссер сталкивается с переменными, которые не зависят от его сознательной воли. К ним относятся эмоции, эстетика, отношения с актерами, обстоятельство, вкус, искусство, экономика средств, господствующая идеология. Эти переменные мало контролируются рациональностью и выражают содержание бессознательного. Режиссер становится настоящим катализатором сценического действа, в котором переплетаются психические динамики.
Во-вторых, мы имеем дело с интенциональностью актера, который управляет сценой и имеет наибольшую возможность самовыражения в данном персонаже и в данном действии. Выбор режиссером актеров также отражает сходство их бессознательных структур и образов. На первый взгляд кажется, что выбор рационален и обусловлен логикой спектакля, однако зачастую он оказывается случайным или же определяется аффективностью, когда, к примеру, режиссер видит только эту актрису и никакую другую. В основном выбор актеров происходит в силу психического сходства (на уровне чувств, эмоций, семантики), которое мотивируется вовне логико-технической диалектикой. Для других это исключительно рыночная экономика.
Выдающиеся режиссеры всегда отбирают актеров и актрис в силу комплексуального сходства. Анализируя актера, мы также проникаем в содержание бессознательного режиссера. Взаимодействие между актером и режиссером разворачивается не столько на сознательном, культурном уровне, сколько на уровне бессознательной органической информации. Семантические поля в этой связи становятся очевидными. Режиссер управляет актером не только внешне с помощью слов, жестов, советов, но и посредством психической интенциональности. Работа в тесном проксемическом пространстве приводит к взаимозависимости бессознательного режиссера и актера. В первую очередь требуется готовность актера, либо бессознательная комплексуальная интенциональность режиссера выбирает наиболее подходящие для себя моменты.
В-третьих, это интенциональность публики. Действительно, действие-выражение режиссера и актера всегда ориентируется на получателя знаков. Интенциональность данного типа вступает во взаимодействие в молчании, исподволь обуславливает одним лишь присутствием или отсутствием. Любой спектакль является итогом взаимодействия интенциональности режиссера, актера и публики.
Теперь зададимся вопросом о той бессознательной интенциональности, что движет актером на сцене. Данный вопрос возникает из рассуждения о том, что в обычной жизни в действиях человека присутствует не одна причина и что основные его мотивации лежат в бессознательном. Человеком управляет неведомая ему причинность даже тогда, когда он думает, что совершает выбор по собственной воле. Точно так же внешнее сценическое действие приводится в движение причинами, лежащими в бессознательной части психики.
Настоящий актер-художник всегда стремится в своем профессиональном действии «творить», создавать искусство доступными ему органическими средствами. Так проявляется стремление раскрыться навстречу миру бессознательного. Помимо того, что хороший актер владеет техникой игры, он входит в таинство инстинктивности, импульсов, содержания бессознательного настолько, что оживляет их на сцене, позволяет зрителю распознавать за пределами рациональной данности. Актер должен задействовать свое тело; через действие он конкретизирует многочисленные мотивации и содержание бессознательного, от первого лица проживает противоречия между сознанием в-себе и бессознательным. Он должен дать жизнь персонажу, другому человеку. Он словно бы забывает себя и свою сознательную личностную структуру, чтобы в этот момент воплотиться в другого. Актер устраняет себя и раскрывает другого. Это возможно только в том случае, если он уже каким-то образом в своем бессознательном является тем другим. Тогда актер просто выявляет и включает в действие ту реальность, которую он проживает изнутри.
Когда говорят о техническом мастерстве, следует помнить, что техника – это всего лишь способ достижения раздвоения, перехода, вхождения в образ. Хороший актер передает не технику, а эмоциональную эстетику. Даже притворяясь персонажем, он в этом притворстве приводит в движение динамики, относящиеся к миру своего бессознательного. Именно в фальши, предполагаемой созданием образа своего героя, актер представляет истину индивидуального бессознательного в совпадении с бессознательным коллективным.
Вхождение в модус бытия, который в обычной жизни не предусматривается социальной ролью актера, дает ему возможность быть собой и выражать мотивации бессознательного. Притворство позволяет отделиться от сознательной, внешней данности и войти в глубинную, мотивирующую поверхностный пласт реальность. Находясь на съемочной площадке или на сцене, настоящие актеры не притворяются: в наиболее сильных моментах они действительно страдают и наслаждаются, по-настоящему и всецело переживают, срастаясь с ролью. Поэтому и в сцене, выстроенной на комплексе, актеры смакуют болезнь: они вовлекают в действие публику, если реально, но под видом притворства, живут тем, что исполняют. С дарованной такой «игрой» уверенностью не только актеры, но и многие другие люди получают возможность с любовью проживать собственную болезнь.
Очевидно, что видимым образом актер и зритель встречаются в рамках имитации жизни, но в действительности они находят друг друга в общей истине, выраженной в действии третьего лица – персонажа. Используя персонаж, актер сокращает сознательный пласт, чтобы дойти до той точки, из которой он воссоздаст персонаж, но уже в соответствии с собственной внутренней реальностью. Актер на самом деле «забывает» свое социальное «Я», чувства, заботы, каждодневную рутину, чтобы войти в измерение своего персонажа. Так называемое «если бы»* актера воссоздает само по себе любого персонажа. Вхождение означает отбрасывание сознательной роли и принятие психологической типологии, основанной на мотивах, внутренней инстинктивности, бессознательных потребностях.
Что выражает собой сценическое действие? Что на самом деле семантически сообщает актер? Принимая во внимание мнения самих актеров, суждения театральных и кинокритиков, содержательную и побудительную силу представленного на сцене персонажа, можно утверждать, что зритель становится свидетелем драмы, пределов страдания человека. В ролях, персонажах, ситуациях, символах проявляются повседневные страдания человека. В качестве примера приведу слова Габриэля Лавии, напечатанные в одном из ежедневных изданий: «Мне нравится изучать сумасшествие человека, его шизофрению, раздвоенность его «Я» и погружаться в героя настолько, чтобы начать чувствовать его боль и радость».
Рассмотрев сценическую игру актера, можно заметить, что самыми любимыми для него оказываются роли, в которых всплывает животное начало, сумасшествие, агрессивное саморазрушение. Самый хороший актер тот, кто больше всех подвержен ревности, агрессии, наваждениям, сумасшествию, кошмарам, судьбе, страдает от любви и непонимания окружающих, что на сцене может быть представлено и в комическом, развенчивающем ключе, однако содержимое фрустрированного существования останется в неприкосновенности. Более того, кажется, что без всего этого невозможны ни театр, ни кино.
Продолжая разговор об устном сообщении, о работе актера, режиссера и критика, Генри Лабори утверждает: «Для меня тоска проистекает из подавления действия, а при встрече с другим – из его речи. Этот другой неумело управляет пережитым, которое не совпадает с моим опытом, и мы впадаем в тоску, поскольку лишены возможности действовать. Человек счастлив, когда встречает другого, несущего в себе нечто поистине абсолютно фундаментальное, глубинно выражающего самолюбование и одиночество, но не на словах, а на языке тела. Считается, что невротик говорит на языке тела потому, что он способен лишь на истерическое проявление, например, своего одиночества. Думаю, что все мы в той или иной степени невротики, просто общественная культура не позволяет нам подобных проявлений, иначе бы мы не были хорошими производителями. На собраниях, подобных этому, у нас есть возможность побыть невротиками всем вместе. Для меня быть невротиком означает просто быть человеком, понять, осознать, что тоска есть в начале и в конце и одновременно в середине. Более того, мы безоружны перед этой тоской – тоской смерти».
Исполнительское искусство признает тоску не только прерогативой человека, но и считает высшим художественным достижением. Это означает лишь инфантильную проекцию утраты собственной реальности, неадекватности в существовании, неспособности к полной жизни. Это проявление подлости по отношению к жизни, несмотря на то что тоска заняла прочное место в человеческом существовании. Многие полагают, что рожденное от навязчивой идеи искусство может помочь человеку в жизни. С позиции психологического роста возникает вопрос, как искусство, являющееся выражением невроза и психических конфликтов, может способствовать росту, самореализации, усилению жизни.
Став взрослым, на основе комплексуального тематического отбора он выберет или будет выбран женщиной, которая предложит ему те же материнские модальности. Если мать попытается освободиться из ловушки, в которой она сама является первой жертвой, он начнет предпринимать действия, чтобы вернуть ее к механизму негативности. В конце концов, первой расплачивается сама женщина, мужчина же, сохраняя потенциал к смерти, будет продолжать свое существование в незнании, но под сообщнической защитой общественной морали.
5) Итог трагедии «Царь Эдип».
Хор:
О страшное свершивший!
Как дерзнул
Ты очи погасить? Внушили боги?
Эдип:
Аполлон решил, родные!
Завершил мои он беды!
Глаз никто не поражал мне, —
Сам глаза я поразил.
Последние строки трагедии.
Хор:
И назвать счастливым можно,
очевидно, лишь того,
Кто достиг предела жизни, в ней
несчастий не познав.
В некоторых трагедиях хор выступает как подтверждение суждений главного героя: действие социального «Сверх-Я» наносит милостивый удар по индивиду, который находится в шаге от вынесения приговора самому себе.
Наконец, появляется подлинное главное действующее лицо трагедии – Аполлон, имя которого вовсе не случайно означает «причина разрушения». Deus ex machina появляется, чтобы присутствовать при драматической развязке, он наблюдает за трагическим исходом марионеток, исполнявших его замысел. Подобный мотив встречается не только в трагедии Софокла «Царь Эдип», он присущ всем произведениям великих трагиков. У Эсхила и Софокла присутствие бога лишь подразумевается, у Еврипида божество выходит на сцену. Следовательно, человек – несвободен, его жизнь программируется и упорядочивается началом, подобным вечным законам космоса или сверхчеловеческим силам, гарантирующим нерушимый порядок правосудия. И все же греки почитали богов, создавали их статуи, развивали культ.
Эдип противоречит самому себе: сначала он усматривает причину своих злоключений в Аполлоне. Затем обвиняет самого себя: кажется, будто в какой-то миг, по рассеянности, он открывает истину, но тотчас же берет себя в руки и отвлекает внимание слушателей от сказанного.
Проведенное с помощью онтопсихологического критерия исследование позволяет определить причину, расшифровывая ее следствия и отслеживая скрытое в словах индивида послание. Во имя и по воле божества люди выносят боль и страдания, отказываясь от самих себя. В таком акте, рассмотренном как символ, обнаруживается присутствие чужеродного механизма, который, уподобляясь жизни, внедряется в человека, вызывая в нем расщепление. Неважно, как именовать этот механизм – богом, змием, дьяволом, мистерией или еще как-нибудь. Единственной реальностью представляется исполнение компьютерной программы, направленной на разрушение.
И хотя Эдип до последней минуты лжет, в конце он открывает единственную истину: разрушительное начало предваряет существование Эдипа, матери, отца, предваряет любое решение. Каждый из них воплощает то, что ему отведено по плану сюжета, в котором царская семья убивает двоих и программирует третьего.
Эдип «с распухшими ногами» – это человеческое существо, которое еще прежде своего появления на свет несло код деформирующей программы, требующей исполнения. Эдип верит, что это он решает то, что в действительности уже решено, верит в то, что он убивает вне себя чудовище, сидящее на самом деле в нем самом: перед нами человек, который убивает отца и выгораживает женщину, приведшую его к катастрофе.
Иокаста, ставшая врагом самой себе, раздвоенная, расщепленная, рабыня своего внутреннего мира, хранит базовую матрицу разрушения себя и других. Это женщина, неизбежно приходящая к самоубийству – окончательному свидетельству ее реальности, коей является смерть.
На самом деле, эдипов комплекс является чуждой человеку программой, а ее активирующим ядром выступает фигура матери. Человек предпочитает именно эту фигуру, поскольку мать становится для обращенного к ней малыша наиболее ярким проводником жизни. Через материнскую фигуру происходит внедрение в ребенка монитора отклонения (на основе зрительной аффективности и установленной рефлективной матрицы)[3 - См. Онтопсихологическая теория личности в книге Менегетти А. Учебник по онтопсихологии. Указ. соч.]. В дальнейшем монитор отклонения становится автономным в зависимом организме, который вынужден навязчиво повторять матрицу. Таким образом, семья становится самой благодатной почвой для внедрения стереотипности монитора отклонения. Под «семьей» следует понимать квартал, церковный приход, кружок, то есть любой контекст, в котором существуют фигура взрослого-матери и ответное действие аффективно от нее зависимых.
Эдип винит Аполлона, но сколько раз мы слышали такие высказывания: «Да исполнится воля божья» или «Это веление бога?». За так называемым смирением скрывается инфантильность человека, проявляющаяся в двуликой ситуации – желанной и навязанной одновременно. Ослепление Эдипа символизирует три аспекта реальности: это человек, который не видел, не хотел видеть и не должен был видеть ничего, кроме близости с матерью.
Слов Эдипа недостаточно; только оставшись наедине с собой, он сможет все понять. Ему нельзя позволить умереть, потому что тогда игра закончится. Люди дорожат своей жизнью, смерть близкого тревожит их. А Эдип еще может послужить, иначе как показать тех, кто будет заботиться о бедном слепом старике? И он уходит – изгнанный, оборванный, жалующийся на невзгоды своей судьбы. Люди уважают слепых, считают их мудрыми. И действительно, Эдип добрел до Колона[4 - Странное название города ассоциируется с колонизацией.], где снискал славу мудреца и героя, пользуясь жалостью тех, кто его встретил и к нему прислушался.
Машина уже притворилась человеком, отпечатавшись на его челе. Теперь она достигнет Колона, где под прикрытием мощного оружия – мудрости – приумножит свои жертвы и обретет новых сторонников. Так будет до тех пор, пока люди не прозреют.
1.4.2. Краткие выводы
Итак, я бы дал следующее объяснение трагедии «Царь Эдип» и эдипову комплексу: человек, погрязший в семейственности, материнском расположении, становится слепым. Я не разделяю интерпретацию Фрейда, поскольку великие греческие драматурги были ко всему прочему выдающимися философами, теологами и метафизиками. Фрейд с его точкой зрения не мог уловить точности и аутентичности Софокла, Еврипида и Эсхила.
Фрейдовский анализ трагедии «Царь Эдип», сюжет которой в том или ином виде перенят всеми драматургами, начиная с Шекспира с его «Гамлетом» и «Макбетом», задал ошибочное прочтение из-за материнского комплекса Фрейда по отношению к его родной матери.
«Царь Эдип» – это не столько проявление сексуальности сына в отношениях с матерью, сколько констатация факта, что любой мужчина, достойный стать великим, замыкается в семейственном круге и впоследствии теряет способность видеть. Эдипу не удается встать на путь выдающегося человека, учителя, царя. Он остается во власти материнского семейно-прародительского дома. Ребенок, который не достигает психологической взрослости, не оставляет семью и не становится «продуктивным действием» в обществе, утрачивает онтическое видение.
Лидерский потенциал субъекта уменьшается и прекращает развитие под воздействием всего, что складируется, редуцируется, отдается в залог, интровертируется в семейственной утробе на протяжении поколений, всего, что подавляется, а затем выливается в преступность и патологию.
1.5. Актер и интенциональность на сцене
Можно исследовать фигуру актера[5 - В контексте данной книги понятие «актер» рассматривается в широком смысле слова без технического разделения на две категории – актеров и исполнителей роли. Актерами являются, например, Альберто Сорди или Джон Уэйн: это персонажи, которые всегда сохраняют свою идентичность и проявляют ее в многочисленных ролях. Джон Уэйн – это всегда Джон Уэйн: сперва мы видим личность, а затем роль, которую он играет. В определенном смысле актер уже одарен от природы. Исполнитель же – это тот, кто проходит становление в зависимости от воплощаемой роли. Исполнительство требует большего искусства, школы, техники. Мы видим исполнителя в роли и не узнаем его, потому что исполнитель – это в первую очередь персонаж, за которым впоследствии видна личность.] на двух уровнях:
1) на уровне анализа различных структур, эстетики, рационального содержания, проксемики, профессионализма, психологии, взывая к систематизированности с позиций сознательной интенциональности;
2) а также на уровне анализа, нацеленного на поиск динамической точки выражения, бессознательного содержания сценической деятельности.
Мы проведем анализ второго типа, то есть учтем все, что было сказано по данной теме в исследованиях, посвященных актерскому искусству, и пойдем дальше.
Каждый спектакль есть взаимодействие между предъявленным значением и актером. В театре значение передается актером при содействии режиссера; в фильме – посредством образов выдуманной реальности, выстроенных актером. Я не ставлю себе задачей поиск различий между театром и кино, однако ясно, что в театральном действе актер кожей ощущает контакт со зрителем, физически модулирует взаимодействие, управляет связью «актер-зритель», которой и характеризуется театр. Именно актер посредством своего особого способа «бытия» на сцене определяет, какое послание и смысл предъявлять зрителю. Театральная реальность строится на семантическом поле актера во взаимодействии с публикой.
Основополагающая точка связи «актер-зритель» лежит в поле бессознательного, там, где происходит движение и модулирование психической интенциональности – первичной или динамической причины, структурирующей реальность. В финальном гештальте спектакля вступают во взаимодействие три типа интенциональности. Опустим намерение автора текста, поскольку режиссер и актер, выбирая конкретный текст, перенимают это намерение. Выбор текста обусловлен сходством потребностей всех троих.
На первом месте оказывается интенциональность режиссера, который использует все средства (актеров, сцену, музыку, свет, хореографию, грим, монтаж, план постановки), чтобы выразить вовне свое сознание и бессознательное. Создавая спектакль, режиссер сталкивается с переменными, которые не зависят от его сознательной воли. К ним относятся эмоции, эстетика, отношения с актерами, обстоятельство, вкус, искусство, экономика средств, господствующая идеология. Эти переменные мало контролируются рациональностью и выражают содержание бессознательного. Режиссер становится настоящим катализатором сценического действа, в котором переплетаются психические динамики.
Во-вторых, мы имеем дело с интенциональностью актера, который управляет сценой и имеет наибольшую возможность самовыражения в данном персонаже и в данном действии. Выбор режиссером актеров также отражает сходство их бессознательных структур и образов. На первый взгляд кажется, что выбор рационален и обусловлен логикой спектакля, однако зачастую он оказывается случайным или же определяется аффективностью, когда, к примеру, режиссер видит только эту актрису и никакую другую. В основном выбор актеров происходит в силу психического сходства (на уровне чувств, эмоций, семантики), которое мотивируется вовне логико-технической диалектикой. Для других это исключительно рыночная экономика.
Выдающиеся режиссеры всегда отбирают актеров и актрис в силу комплексуального сходства. Анализируя актера, мы также проникаем в содержание бессознательного режиссера. Взаимодействие между актером и режиссером разворачивается не столько на сознательном, культурном уровне, сколько на уровне бессознательной органической информации. Семантические поля в этой связи становятся очевидными. Режиссер управляет актером не только внешне с помощью слов, жестов, советов, но и посредством психической интенциональности. Работа в тесном проксемическом пространстве приводит к взаимозависимости бессознательного режиссера и актера. В первую очередь требуется готовность актера, либо бессознательная комплексуальная интенциональность режиссера выбирает наиболее подходящие для себя моменты.
В-третьих, это интенциональность публики. Действительно, действие-выражение режиссера и актера всегда ориентируется на получателя знаков. Интенциональность данного типа вступает во взаимодействие в молчании, исподволь обуславливает одним лишь присутствием или отсутствием. Любой спектакль является итогом взаимодействия интенциональности режиссера, актера и публики.
Теперь зададимся вопросом о той бессознательной интенциональности, что движет актером на сцене. Данный вопрос возникает из рассуждения о том, что в обычной жизни в действиях человека присутствует не одна причина и что основные его мотивации лежат в бессознательном. Человеком управляет неведомая ему причинность даже тогда, когда он думает, что совершает выбор по собственной воле. Точно так же внешнее сценическое действие приводится в движение причинами, лежащими в бессознательной части психики.
Настоящий актер-художник всегда стремится в своем профессиональном действии «творить», создавать искусство доступными ему органическими средствами. Так проявляется стремление раскрыться навстречу миру бессознательного. Помимо того, что хороший актер владеет техникой игры, он входит в таинство инстинктивности, импульсов, содержания бессознательного настолько, что оживляет их на сцене, позволяет зрителю распознавать за пределами рациональной данности. Актер должен задействовать свое тело; через действие он конкретизирует многочисленные мотивации и содержание бессознательного, от первого лица проживает противоречия между сознанием в-себе и бессознательным. Он должен дать жизнь персонажу, другому человеку. Он словно бы забывает себя и свою сознательную личностную структуру, чтобы в этот момент воплотиться в другого. Актер устраняет себя и раскрывает другого. Это возможно только в том случае, если он уже каким-то образом в своем бессознательном является тем другим. Тогда актер просто выявляет и включает в действие ту реальность, которую он проживает изнутри.
Когда говорят о техническом мастерстве, следует помнить, что техника – это всего лишь способ достижения раздвоения, перехода, вхождения в образ. Хороший актер передает не технику, а эмоциональную эстетику. Даже притворяясь персонажем, он в этом притворстве приводит в движение динамики, относящиеся к миру своего бессознательного. Именно в фальши, предполагаемой созданием образа своего героя, актер представляет истину индивидуального бессознательного в совпадении с бессознательным коллективным.
Вхождение в модус бытия, который в обычной жизни не предусматривается социальной ролью актера, дает ему возможность быть собой и выражать мотивации бессознательного. Притворство позволяет отделиться от сознательной, внешней данности и войти в глубинную, мотивирующую поверхностный пласт реальность. Находясь на съемочной площадке или на сцене, настоящие актеры не притворяются: в наиболее сильных моментах они действительно страдают и наслаждаются, по-настоящему и всецело переживают, срастаясь с ролью. Поэтому и в сцене, выстроенной на комплексе, актеры смакуют болезнь: они вовлекают в действие публику, если реально, но под видом притворства, живут тем, что исполняют. С дарованной такой «игрой» уверенностью не только актеры, но и многие другие люди получают возможность с любовью проживать собственную болезнь.
Очевидно, что видимым образом актер и зритель встречаются в рамках имитации жизни, но в действительности они находят друг друга в общей истине, выраженной в действии третьего лица – персонажа. Используя персонаж, актер сокращает сознательный пласт, чтобы дойти до той точки, из которой он воссоздаст персонаж, но уже в соответствии с собственной внутренней реальностью. Актер на самом деле «забывает» свое социальное «Я», чувства, заботы, каждодневную рутину, чтобы войти в измерение своего персонажа. Так называемое «если бы»* актера воссоздает само по себе любого персонажа. Вхождение означает отбрасывание сознательной роли и принятие психологической типологии, основанной на мотивах, внутренней инстинктивности, бессознательных потребностях.
Что выражает собой сценическое действие? Что на самом деле семантически сообщает актер? Принимая во внимание мнения самих актеров, суждения театральных и кинокритиков, содержательную и побудительную силу представленного на сцене персонажа, можно утверждать, что зритель становится свидетелем драмы, пределов страдания человека. В ролях, персонажах, ситуациях, символах проявляются повседневные страдания человека. В качестве примера приведу слова Габриэля Лавии, напечатанные в одном из ежедневных изданий: «Мне нравится изучать сумасшествие человека, его шизофрению, раздвоенность его «Я» и погружаться в героя настолько, чтобы начать чувствовать его боль и радость».
Рассмотрев сценическую игру актера, можно заметить, что самыми любимыми для него оказываются роли, в которых всплывает животное начало, сумасшествие, агрессивное саморазрушение. Самый хороший актер тот, кто больше всех подвержен ревности, агрессии, наваждениям, сумасшествию, кошмарам, судьбе, страдает от любви и непонимания окружающих, что на сцене может быть представлено и в комическом, развенчивающем ключе, однако содержимое фрустрированного существования останется в неприкосновенности. Более того, кажется, что без всего этого невозможны ни театр, ни кино.
Продолжая разговор об устном сообщении, о работе актера, режиссера и критика, Генри Лабори утверждает: «Для меня тоска проистекает из подавления действия, а при встрече с другим – из его речи. Этот другой неумело управляет пережитым, которое не совпадает с моим опытом, и мы впадаем в тоску, поскольку лишены возможности действовать. Человек счастлив, когда встречает другого, несущего в себе нечто поистине абсолютно фундаментальное, глубинно выражающего самолюбование и одиночество, но не на словах, а на языке тела. Считается, что невротик говорит на языке тела потому, что он способен лишь на истерическое проявление, например, своего одиночества. Думаю, что все мы в той или иной степени невротики, просто общественная культура не позволяет нам подобных проявлений, иначе бы мы не были хорошими производителями. На собраниях, подобных этому, у нас есть возможность побыть невротиками всем вместе. Для меня быть невротиком означает просто быть человеком, понять, осознать, что тоска есть в начале и в конце и одновременно в середине. Более того, мы безоружны перед этой тоской – тоской смерти».
Исполнительское искусство признает тоску не только прерогативой человека, но и считает высшим художественным достижением. Это означает лишь инфантильную проекцию утраты собственной реальности, неадекватности в существовании, неспособности к полной жизни. Это проявление подлости по отношению к жизни, несмотря на то что тоска заняла прочное место в человеческом существовании. Многие полагают, что рожденное от навязчивой идеи искусство может помочь человеку в жизни. С позиции психологического роста возникает вопрос, как искусство, являющееся выражением невроза и психических конфликтов, может способствовать росту, самореализации, усилению жизни.