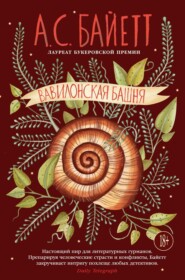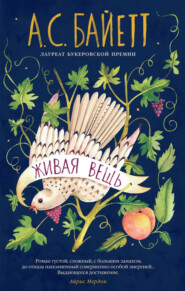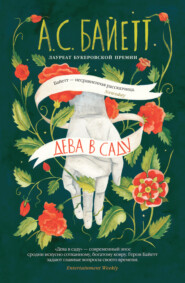По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обладать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ей нравилось вклеивать в речь выражения из лексикона облизывающихся самцов – бить врага его же оружием. Роланд недоумевал: Фергусу такая характеристика никак не подходила. Да, блондин, да, пользуется немалым успехом у женщин – но только и всего. К себе они Фергуса больше не приглашали, и Роланд опасался, как бы тот не подумал, что это Роланд с досады отказал ему от дома.
* * *
Вернувшись в этот вечер домой, Роланд носом учуял, что Вэл в боевом настроении. По квартире тёплыми волнами разливался крепкий запах жареного лука: значит, она стряпает что-то этакое. Когда Вэл хандрила, когда у неё всё валилось из рук, она просто открывала консервы, варила яйца или в лучшем случае подавала авокадо со специями. Но если на неё накатывала бодрость или ярость, она бросалась стряпать. Вэл у мойки шинковала тыкву и баклажаны. На Роланда она даже не взглянула, и он понял, что настроение у неё не просто боевое, а воинственное. Стараясь не шуметь, он поставил сумку.
Их длинная сумрачная комната-пещера была выкрашена белой и бледно-оранжевой краской – Роланд и Вэл выбрали эти цвета, чтобы в комнате было не так мрачно. Обставлена комната была так: диван-кровать, два старых-престарых кресла с пыльной обивкой из фиолетового плюша, с изголовьями и гнутыми подлокотниками, закрученными на концах в резные спирали, видавший виды письменный стол из морёного дуба, за которым работал Роланд, и ещё один письменный стол, поновее, из полированного бука – на нём стояла пишущая машинка. Столы, отвернувшись друг от друга, уткнулись в противоположные стены, каждый был оснащён настольной лампой на кронштейнах: у Роланда чёрная, у Вэл розовая. В торце комнаты прогибались под тяжестью книг полки стеллажа, сооружённого из досок и кирпичей. Книги – классические труды – были общими, кое-что оказывалось в двух экземплярах. На стенах плакаты: «Коран» из собрания Британского музея – причудливый геометрический орнамент – и афиша выставки Тернера в галерее Тейт.
У Роланда было три изображения Рандольфа Генри Падуба. Первое стояло у него на столе: фотография посмертной маски, одного из предметов, составляющих гордость Стэнтовского собрания в Гармония-Сити. Происхождение этого мрачного широколобого изваяния оставалось загадкой. Ведь усопший на фотографиях запечатлён со своей патриархальной бородой. Кто её сбрил, когда? Этот вопрос задавал себе Роланд, этот вопрос исследовал Мортимер Собрайл в своей книге о жизни поэта «Великий Чревовещатель», но ответа никто не нашёл. Два других портрета – сделанные по заказу Роланда фотографии живописных полотен из Национальной портретной галереи – Вэл упрятала в тёмную прихожую. Она сказала, что не хочет всё время ловить на себе его взгляд, пора хоть немного пожить для себя, а то всё Падуб да Падуб.
В полумраке прихожей фотографии было не разглядеть. Один портрет принадлежал кисти Мане, другой написан Д. Ф. Уоттсом*. Работа Мане относилась к 1867-му, когда художник приезжал в Англию, и отчасти напоминала его же портрет Золя. Живописец изобразил Падуба, с которым он познакомился ещё в Париже, восседающим вполоборота к зрителю за письменным столом, в резном кресле красного дерева. Фоном служит нечто вроде триптиха, где на боковых створках выписаны листья папоротника, а посредине подводные заросли, в которых посверкивают розовой и золотистой чешуёй рыбы. Сначала кажется, что поэт расположился где-то в лесу, у подножия деревьев, но, как отмечал Мортимер Собрайл, скоро понимаешь, что фон – это разделённый перегородками стеклянный резервуар, в каких исследователи в Викторианскую эпоху изучали жизнедеятельность организмов: наблюдали растения в искусственных условиях, рыб в искусственных водоёмах. У Падуба на портрете Мане смуглое волевое лицо, крутой лоб, густая борода, в глубоко посаженных глазах светится затаённое, только ему понятное удовольствие. Это умный, осмотрительный человек, не склонный принимать скоропалительные решения. Перед ним на столе разложены разнообразные предметы: превосходный, изящный натюрморт под стать мастерски выполненной голове портретируемого и двусмысленной растительности фона. Тут и собрание неотшлифованных геологических образцов, в числе которых два камня почти правильной шарообразной формы, похожие на маленькие пушечные ядра, один чёрный, другой сернистого зеленовато-жёлтого цвета, тут и древние окаменелости: аммониты и трилобиты,[7 - Аммониты – надотряд вымерших морских головоногих моллюсков. Трилобиты – класс вымерших морских членистоногих.] тут и большой хрустальный шар, и чернильница зелёного стекла, и кошачий скелет на подставке, и стопка книг – два названия можно разобрать: «Божественная комедия» и «Фауст», – и песочные часы в деревянной оправе. Чернильница, хрустальный шар, часы и две упомянутые книги, к которым добавились ещё две, чьи названия ценой кропотливых трудов удалось установить: «Дон Кихот» и «Основы геологии» Лайеля*, – всё это попало в Стэнтовское собрание и экспонировалось в особом помещении, в той же обстановке, что и на картине Мане, на фоне стеклянного резервуара. Даже стол и кресло были подлинные.
Портрет работы Уоттса был не так отчётлив и достоверен. На этой картине, написанной в 1876 году, поэт выглядит старше и неземнее. Подобно фигурам на многих других портретах Уоттса, он весь охвачен порывом к духовному свету, который озаряет его голову, венчающую расплывчатое столпообразное тело. На фоторепродукции задний план потемнел и превратился в пелену мрака со сгустками и прогалинами, но на оригинале он более-менее различим: это какая-то скалистая местность. Самое примечательное на этом портрете – глаза, большие, сверкающие. И ещё борода – многоструйный поток серебристого, млечного, сизого, ручейки и развилины – совсем как буйно-курчавая борода Леонардо да Винчи на автопортрете, от которой, кажется, исходит свет. Борода Падуба казалась светящейся даже на репродукции. Роланд находил, что на фотографиях портреты вышли не только более строгими, но и какими-то более жизненными, как и вообще всё на фотографиях. Более жизненными и менее живыми, не одушевлёнными цветом. Зато изображение стало реалистичнее – в сегодняшнем смысле слова, по сегодняшним представлениям. В сырой неухоженной комнате репродукции слегка поблекли. Но у Роланда не было денег заказать новые.
* * *
Окно комнаты смотрело в тесный дворик, откуда по ступенькам можно было подняться в сад: он виднелся наверху, за оградой. Когда Роланд и Вэл пришли сюда по объявлению о сдаче квартиры, им было сказано, что это квартира с выходом в сад. Но выйти в сад им довелось только в то первое посещение: позже выяснилось, что всякие прогулки в саду им воспрещаются. Им даже возбранялось держать на площадке у своей двери растения в кадках. Объявила об этом домовладелица, восьмидесятилетняя миссис Ирвинг, тон её был категоричен, а объяснения невразумительны. Сама миссис Ирвинг занимала остальные три этажа, где стоял затхлый смрад от несметного полчища кошек, живших бок о бок с хозяйкой. Сад она содержала в чистоте и холе, зато скудно обставленная гостиная её была совершенно запущена. Вэл утверждала, что миссис Ирвинг заманила их на эту квартиру, как старая ведьма из сказки: повела в сад, расписала, какая тут тишина, угостила каждого золотым пушистым абрикосиком с деревьев, что росли на шпалерах вдоль изгибающейся кирпичной стены. Сад был вытянут в длину, тенистый, но не загустевший, с залитыми солнцем газонами в обрамлении самшитовых кустиков, отовсюду веяло благоухание роз – смуглых дамасских, нежно-розовых, чайных, – а по краям газона пестрели фантастическим узором тигровые и крапчатые лилии. Витая бронза и золото, броские, жаркие, пышные цвета. И всё под запретом. Но при первом посещении о запрете не было сказано ни слова. Вместо этого миссис Ирвинг своим приветливым надтреснутым голосом прочла целую лекцию о высокой кирпичной стене, построенной в годы гражданской войны – и даже раньше, в те времена, когда Патни был не пригородом Лондона, а просто деревушкой и стена обозначала границу владений генерала Фэрфакса*, в те времена, когда здесь собиралось ополчение Кромвеля, когда в церкви Святой Марии, что на мосту, велись дебаты о свободе совести. В одном стихотворении Рандольф Генри Падуб воспроизводит речь, якобы произнесённую неким «копателем» во время дебатов в Патни.[8 - Дебаты в Патни (октябрь 1647 г.), в которых участвовали солдаты и офицеры парламентской армии, касались новых основ общественных отношений после победы сторонников парламента. «Копатели» («диггеры») – представители крайне левого крыла революционной демократии в Английской революции – требовали уничтожения частной собственности и раздела всех благ.] Падуб нарочно приезжал сюда посмотреть на реку в пору мелководья. Эллен Падуб писала в своём дневнике про эту поездку, про завтрак на траве: жареный цыплёнок и пирог с петрушкой. Воспоминания о Падубе, о покровителе Марвелла* генерале Фэрфаксе, обнесённый стеною сад, полный цветов и плодов, – и Роланд с Вэл не устояли перед соблазном снять квартиру с выходом в сад и видом на запретные красоты.
Когда наступала весна, сверху в окне брезжило жёлтое сияние – это распускались росшие плотным строем яркие нарциссы. К самому окну подкрадывались усики дикого винограда и, припадая круглыми присосочками к стеклу, со всей быстротой, на какую способно растение, спускались всё ниже и ниже. Иногда во дворик склонялись выбившиеся из-за ограды душистые ветки жасмина, который пышно цвёл возле самого дома. Но появлялась миссис Ирвинг в том самом садовом облачении, в котором когда-то завлекала квартирантов, – латаный-перелатаный твидовый костюм, фартук и сапоги, – появлялась и водворяла ветку на место. Однажды Роланд вызвался помогать ей по саду, а за это просил, чтобы она разрешила там иногда посиживать. В ответ он услышал, что в садоводстве не разбирается, что молодёжь нынче ничего не бережёт, а всё только ломает, что ей, миссис Ирвинг, дороже всего покой.
– То-то, наверно, кошки в саду хозяйничают, – предположила однажды Вэл.
А через некоторое время они заметили на потолке в кухне и в ванной сырые пятна. Роланд потрогал их пальцем, понюхал его и уловил отчётливый запах кошачьей мочи. Оказывается, кошки тоже томились под домашним арестом. Надо было бы подыскать другую квартиру, но заговаривать об этом первым Роланд не хотел: он иждивенец. И не нужно пока в их отношениях с Вэл никаких встрясок.
* * *
Вэл поставила перед ним жаркое из барашка под маринадом, овощное рагу и греческий хлеб – большую горячую лепёшку.
– Может, за вином сбегать? – предложил Роланд, но Вэл резко, не деликатничая, ответила:
– Спохватился! Пока пробегаешь, всё остынет.
Ели они за ломберным столиком, который потом складывали.
– Я сегодня сделал потрясающее открытие, – начал Роланд.
– Ну-ну.
– В Лондонской библиотеке. У них есть книга Вико из библиотеки Падуба. Его собственный экземпляр. Его в сейфе хранят. Я заказал, смотрю – в книге полным-полно собственноручных записей Падуба на всяких старых счетах. Между страниц. Я на девяносто процентов уверен, что их никто не читал. Как их засунули, так они и лежат. Края почернели как раз по обрез книги.
В ответ бесстрастное:
– Как интересно.
– Может быть, это переворот в науке. Точно-точно. Мне-то взглянуть разрешили, не отобрали. Про них наверняка никто не знает.
– Да уж конечно не знает.
– Надо рассказать Аспидсу. Он полезет проверять, есть ли там что-нибудь интересное, не успел ли Собрайл до них добраться.
– Да уж конечно успел.
Определённо она была не в духе.
– Прости, Вэл, я не хотел тоску нагонять. Но по-моему, страшно интересно.
– Это уж кого что греет. У каждого свои радости в жизни.
– Я про эту находку напишу. Статью. После такого открытия и работу будет легче найти.
– Работы никакой не осталось, – сказала Вэл и прибавила: – А если что и осталось, всё равно отдадут Фергусу Вулффу.
«Вэл в своём репертуаре», – подумал Роланд: он заметил, что это замечание давно вертелось у неё на языке, но она великодушно крепилась.
– Ну, если ты считаешь, что я занимаюсь ерундой…
– Ты занимаешься тем, что тебя греет. Как и всякий, кому повезло и кого хоть что-то греет. Ты возишься со своим мертвецом. Который возился со своими мертвецами. Ну и возись на здоровье, но не всем же на него молиться. А вот я просто халтурщица несчастная, но такого на своей халтуре нагляделась. На прошлой неделе в той фирме, что экспортирует керамику, беру со стола у начальника папку, а под ней фотографии. Как издеваются над мальчиками. Цепи, кляпы… Брр! На этой неделе у хирурга показываю класс – навожу порядок в регистратуре и вдруг натыкаюсь на историю болезни шестнадцатилетнего парнишки, которому в прошлом году ампутировали ногу. Сейчас ему делают протез – делают уже несколько месяцев, волынка страшная, – а у него на другой ноге началось то же самое. И он не знает. А я знаю. Я много чего знаю. Но всё какие-то обрывки, клочки, нелепости какие-то. Один тип полетел в Амстердам покупать алмазы, я помогала его секретарше заказать билет. Первым классом полетел, машина – блеск. И вот гуляет он по берегу канала, глазеет на фасады, а кто-то подошёл сзади и пырнул ножом. И всё: остался без почки, началась гангрена – и конец. Видишь, как просто. Вот так бывает с теми, на кого я халтурю: был – и нету. А записки Рандольфа Генри Падуба – это уж такая глухая древность. Так что прости, но мне нет никакого дела, что он там оставил в своём Вико.
– Послушай, Вэл, это страшно. Ты никогда не говорила…
– Ну что ты, это очень интересно – всякие там подробности, которые подсматриваешь на халтуре в замочную скважину. Только уж больно они нелепые, толку от них ни на грош. Я тебе, кажется, завидую: ты по крохам восстанавливаешь мировоззрение своего душки Падуба. Но тебе-то какой толк от твоих занятий, а, Кротишка? У самого-то у тебя есть мировоззрение? И как ты думаешь выбираться из этой дыры, в конце-то концов? Или так и проживем всю жизнь под потолком, с которого капает кошачья моча, так и будем сидеть друг у друга на голове?
Она чем-то расстроена, сообразил Роланд. Так расстроена, что несколько раз произнесла «греет» – словечко не из её лексикона. Может, кто-то её потискал? Или не захотел потискать? Нет, это подленькая мысль. Гнев, раздражение – это её стихия, это её «греет». Уж Роланд знает. Он вообще знает её чересчур хорошо, в том-то и беда. Роланд подошёл к Вэл и ласково погладил её шею. Вэл сердито фыркнула, нахохлилась, но скоро оттаяла. Чуть погодя они уже лежали в постели.
* * *
Он так и не рассказал, так и не смог рассказать ей про свою тайком совершённую кражу. Поздно вечером в ванной он ещё раз пробежал оба письма. «Милостивая государыня! Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту…», «Милостивая государыня! Я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе…» Настойчивые, недописанные письма. Пронзительные строки. До сих пор Роланда не слишком занимала давно закончившаяся телесная жизнь Рандольфа Генри Падуба. Тратить время на посещение дома на Рассел-стрит, сидеть, как, бывало, сиживал Падуб, на каменных ступенях в саду – это скорее в духе Собрайла. Роланду нравилось постигать работу ума Падуба, угадывать её в извилистом строе фразы, наблюдать, как она вдруг проступает в неожиданном выборе эпитета. Но эти мёртвые письма вызывали у него трепет – трепет прямо-таки физический. И всё из-за их незаконченности. В воображении возникал не Рандольф Генри Падуб, строчащий пером по бумаге, а только его пальцы, давным-давно истлевшие: вот они берут эти полуисписанные листки, складывают их, помещают в книгу. Письма не выброшены – сохранены… Кто она? Надо разобраться.
Глава 3
…В подземной мгле,
Где Ни?дхёгг,[9 - Ни?дхёгг – в скандинавской мифологии дракон, обитающий под землёй и подгрызающий корни мирового древа – ясеня Иггдрасиля.] аспидночешуйный гад,
У Древа-Миродержца средь корней
Склубившись, гложет их густую вязь.
Р. Г. Падуб. Рагнарёк, III
На другое утро, пока Вэл ещё наносила на лицо свою секретарскую раскраску, Роланд сел на велосипед и отправился в Блумсбери. Он ехал, с опасностью для жизни лавируя в автомобильном потоке, который растянувшимся на пять миль зловонным червячищем полз по мосту Патни, по Набережной, через Парламентскую площадь. Кабинет Роланда в колледже не был за ним закреплён, он просто занимал эту комнату с молчаливого согласия администрации, когда проводил индивидуальные занятия со студентами. Уединясь в тишине кабинета, Роланд распаковал нехитрый скарб, привезённый на багажнике велосипеда, и прошёл в подсобку, где возле мойки в чайных потёках, среди замызганных полотенец, примостился массивный ксерокс. Пока машина, урча и жужжа вентилятором, разогревалась, Роланд перечитал оба письма. Потом положил их на тёмное стекло, под которым прокатились зелёные сполохи. И машина выплюнула горячие, пахнущие химикатами листы со спектрограммами рукописных текстов: пустота по закраинам вышла на копиях чёрной, как у подлинников, окаймлённых чернотой вековой пыли. Совесть его чиста: он записал свой долг факультету в журнале учёта, лежавшем на краю мойки. «Роланд Митчелл, 2 стр., 10 пенсов». Совесть его нечиста. Теперь у него есть добротные копии, и он может незаметно сунуть письма обратно в библиотечный том Вико. Может, но не хочет. Роланду уже казалось, что письма принадлежат ему. Он всегда с некоторым презрением поглядывал на тех, кто млеет при виде всякой реликвии, хранящей прикосновение кого-нибудь из великих: щегольской трости Бальзака, флажолета[10 - Флажолет (фр. flageolet) – род продольной флейты высокого регистра.] Роберта Луиса Стивенсона, чёрной кружевной мантильи Джордж Элиот. Мортимер Собрайл имел обыкновение доставать из внутреннего кармашка золотую «луковицу» Рандольфа Генри Падуба и исчислять время по часам поэта. Ксерокопии Роланда были чётче и чище, чем выцветшие, рыжевато-серые строки подлинника, на копиях чёрные строки отливали свежим лаковым блеском: по-видимому, машину совсем недавно заправили порошком. Пусть так, но расставаться с подлинниками Роланд не хотел.
Когда открылась Библиотека доктора Уильямса, Роланд отправился туда и запросил рукопись объёмистого дневника Крэбба Робинсона. Ему уже случалось здесь бывать, но, чтобы его вспомнили, пришлось сослаться на Аспидса, хотя у Роланда и в мыслях не было посвящать Аспидса в своё открытие – по крайней мере до тех пор, пока он не удовлетворит своё любопытство и не вернёт письма на место.
Получив дневник, Роланд сразу же открыл записи за 1856 год – год публикации цикла «Боги, люди и герои», который неутомимый Крэбб Робинсон прочёл и не оставил без отзыва.
4 июня. Читал драматические поэмы из новой книги Рандольфа Падуба. Особенно примечательными нашёл три, где речь ведётся от лица Августина Гиппонского, саксонского монаха Готшалька*, жившего в IX столетии, и Соседа Шатковера из «Странствий Паломника». Также любопытнейшее изображение подлинного случая, когда Франц Месмер вместе с юным Моцартом музицировали на стеклянной гармонике при дворе эрцгерцога в Вене – произведение, написанное звучным стихом, полное странной напевности, превосходное и по замыслу, и по исполнению. Этот Готшальк, с его неколебимой верой в предопределение, предтеча Лютера – даже и в том, что отринул монашеский обет, – возможно, изображает собою кое-кого из нынешних евангелических проповедников. Сосед же Шатковер, должно быть, сатира на тех, кто, подобно мне, полагает, что христианство не есть идолопоклонническая вера в присутствие божества в куске хлеба, как не есть оно пять пунктов метафизического вероучения.[11 - Имеется в виду религиозная доктрина кальвинизма.] Рисуя Шатковера, который, надо думать, ближе ему по духу, Падуб, по своему обыкновению, выказывает к нему больше неприязни, чем к своему чудовищному монаху, в чьём неистовом рычании местами звучит истинное величие. Каковы же убеждения самого Рандольфа Падуба, разобрать невозможно. Боюсь, что стихи его никогда не будут иметь успех у публики. Его описание Шварцвальда в «Готшальке» очень хорошо, но многие ли сумеют продраться через предваряющие его богословские рассуждения? За извивами и хитроумной вязью его напевов, достигаемыми ценою насилия над стихом, за нагромождениями необычных и неосновательных сближений смысл делается неразличимым. Читая Падуба, я вспоминаю, как молодой Кольридж с упоением декламировал свою эпиграмму на Джона Донна:
Донн, чей Пегас верблюдом выступает,
В амурный вензель кочергу сгибает.
Этот отрывок был хорошо известен падубоведам и часто цитировался. Роланду нравился Крэбб Робинсон – человек, наделённый любознательностью и неутолимым желанием делать добро, души не чаявший в литературе и науках, но при всём том вечно недовольный собой. «Я рано понял, что не имею столько литературного дарования, чтобы занять то место в ряду английских писателей, о котором я мечтал. Но я расчёл, что у меня есть возможность завести знакомство со многими замечательными людьми нашего времени и приносить некоторую пользу, записывая свои с ними беседы». Кого только из великих он не знал! Целых два поколения знаменитостей: Водсворт, Кольридж, де Квинси, Лэм*, мадам де Сталь, Гёте, Шиллер, Карлейль, Д. Г. Льюис*, Теннисон, Клаф*, Баджот. Роланд прочёл записи за 1857 год и перешёл к 1858-му. В феврале Робинсон писал:
* * *
Вернувшись в этот вечер домой, Роланд носом учуял, что Вэл в боевом настроении. По квартире тёплыми волнами разливался крепкий запах жареного лука: значит, она стряпает что-то этакое. Когда Вэл хандрила, когда у неё всё валилось из рук, она просто открывала консервы, варила яйца или в лучшем случае подавала авокадо со специями. Но если на неё накатывала бодрость или ярость, она бросалась стряпать. Вэл у мойки шинковала тыкву и баклажаны. На Роланда она даже не взглянула, и он понял, что настроение у неё не просто боевое, а воинственное. Стараясь не шуметь, он поставил сумку.
Их длинная сумрачная комната-пещера была выкрашена белой и бледно-оранжевой краской – Роланд и Вэл выбрали эти цвета, чтобы в комнате было не так мрачно. Обставлена комната была так: диван-кровать, два старых-престарых кресла с пыльной обивкой из фиолетового плюша, с изголовьями и гнутыми подлокотниками, закрученными на концах в резные спирали, видавший виды письменный стол из морёного дуба, за которым работал Роланд, и ещё один письменный стол, поновее, из полированного бука – на нём стояла пишущая машинка. Столы, отвернувшись друг от друга, уткнулись в противоположные стены, каждый был оснащён настольной лампой на кронштейнах: у Роланда чёрная, у Вэл розовая. В торце комнаты прогибались под тяжестью книг полки стеллажа, сооружённого из досок и кирпичей. Книги – классические труды – были общими, кое-что оказывалось в двух экземплярах. На стенах плакаты: «Коран» из собрания Британского музея – причудливый геометрический орнамент – и афиша выставки Тернера в галерее Тейт.
У Роланда было три изображения Рандольфа Генри Падуба. Первое стояло у него на столе: фотография посмертной маски, одного из предметов, составляющих гордость Стэнтовского собрания в Гармония-Сити. Происхождение этого мрачного широколобого изваяния оставалось загадкой. Ведь усопший на фотографиях запечатлён со своей патриархальной бородой. Кто её сбрил, когда? Этот вопрос задавал себе Роланд, этот вопрос исследовал Мортимер Собрайл в своей книге о жизни поэта «Великий Чревовещатель», но ответа никто не нашёл. Два других портрета – сделанные по заказу Роланда фотографии живописных полотен из Национальной портретной галереи – Вэл упрятала в тёмную прихожую. Она сказала, что не хочет всё время ловить на себе его взгляд, пора хоть немного пожить для себя, а то всё Падуб да Падуб.
В полумраке прихожей фотографии было не разглядеть. Один портрет принадлежал кисти Мане, другой написан Д. Ф. Уоттсом*. Работа Мане относилась к 1867-му, когда художник приезжал в Англию, и отчасти напоминала его же портрет Золя. Живописец изобразил Падуба, с которым он познакомился ещё в Париже, восседающим вполоборота к зрителю за письменным столом, в резном кресле красного дерева. Фоном служит нечто вроде триптиха, где на боковых створках выписаны листья папоротника, а посредине подводные заросли, в которых посверкивают розовой и золотистой чешуёй рыбы. Сначала кажется, что поэт расположился где-то в лесу, у подножия деревьев, но, как отмечал Мортимер Собрайл, скоро понимаешь, что фон – это разделённый перегородками стеклянный резервуар, в каких исследователи в Викторианскую эпоху изучали жизнедеятельность организмов: наблюдали растения в искусственных условиях, рыб в искусственных водоёмах. У Падуба на портрете Мане смуглое волевое лицо, крутой лоб, густая борода, в глубоко посаженных глазах светится затаённое, только ему понятное удовольствие. Это умный, осмотрительный человек, не склонный принимать скоропалительные решения. Перед ним на столе разложены разнообразные предметы: превосходный, изящный натюрморт под стать мастерски выполненной голове портретируемого и двусмысленной растительности фона. Тут и собрание неотшлифованных геологических образцов, в числе которых два камня почти правильной шарообразной формы, похожие на маленькие пушечные ядра, один чёрный, другой сернистого зеленовато-жёлтого цвета, тут и древние окаменелости: аммониты и трилобиты,[7 - Аммониты – надотряд вымерших морских головоногих моллюсков. Трилобиты – класс вымерших морских членистоногих.] тут и большой хрустальный шар, и чернильница зелёного стекла, и кошачий скелет на подставке, и стопка книг – два названия можно разобрать: «Божественная комедия» и «Фауст», – и песочные часы в деревянной оправе. Чернильница, хрустальный шар, часы и две упомянутые книги, к которым добавились ещё две, чьи названия ценой кропотливых трудов удалось установить: «Дон Кихот» и «Основы геологии» Лайеля*, – всё это попало в Стэнтовское собрание и экспонировалось в особом помещении, в той же обстановке, что и на картине Мане, на фоне стеклянного резервуара. Даже стол и кресло были подлинные.
Портрет работы Уоттса был не так отчётлив и достоверен. На этой картине, написанной в 1876 году, поэт выглядит старше и неземнее. Подобно фигурам на многих других портретах Уоттса, он весь охвачен порывом к духовному свету, который озаряет его голову, венчающую расплывчатое столпообразное тело. На фоторепродукции задний план потемнел и превратился в пелену мрака со сгустками и прогалинами, но на оригинале он более-менее различим: это какая-то скалистая местность. Самое примечательное на этом портрете – глаза, большие, сверкающие. И ещё борода – многоструйный поток серебристого, млечного, сизого, ручейки и развилины – совсем как буйно-курчавая борода Леонардо да Винчи на автопортрете, от которой, кажется, исходит свет. Борода Падуба казалась светящейся даже на репродукции. Роланд находил, что на фотографиях портреты вышли не только более строгими, но и какими-то более жизненными, как и вообще всё на фотографиях. Более жизненными и менее живыми, не одушевлёнными цветом. Зато изображение стало реалистичнее – в сегодняшнем смысле слова, по сегодняшним представлениям. В сырой неухоженной комнате репродукции слегка поблекли. Но у Роланда не было денег заказать новые.
* * *
Окно комнаты смотрело в тесный дворик, откуда по ступенькам можно было подняться в сад: он виднелся наверху, за оградой. Когда Роланд и Вэл пришли сюда по объявлению о сдаче квартиры, им было сказано, что это квартира с выходом в сад. Но выйти в сад им довелось только в то первое посещение: позже выяснилось, что всякие прогулки в саду им воспрещаются. Им даже возбранялось держать на площадке у своей двери растения в кадках. Объявила об этом домовладелица, восьмидесятилетняя миссис Ирвинг, тон её был категоричен, а объяснения невразумительны. Сама миссис Ирвинг занимала остальные три этажа, где стоял затхлый смрад от несметного полчища кошек, живших бок о бок с хозяйкой. Сад она содержала в чистоте и холе, зато скудно обставленная гостиная её была совершенно запущена. Вэл утверждала, что миссис Ирвинг заманила их на эту квартиру, как старая ведьма из сказки: повела в сад, расписала, какая тут тишина, угостила каждого золотым пушистым абрикосиком с деревьев, что росли на шпалерах вдоль изгибающейся кирпичной стены. Сад был вытянут в длину, тенистый, но не загустевший, с залитыми солнцем газонами в обрамлении самшитовых кустиков, отовсюду веяло благоухание роз – смуглых дамасских, нежно-розовых, чайных, – а по краям газона пестрели фантастическим узором тигровые и крапчатые лилии. Витая бронза и золото, броские, жаркие, пышные цвета. И всё под запретом. Но при первом посещении о запрете не было сказано ни слова. Вместо этого миссис Ирвинг своим приветливым надтреснутым голосом прочла целую лекцию о высокой кирпичной стене, построенной в годы гражданской войны – и даже раньше, в те времена, когда Патни был не пригородом Лондона, а просто деревушкой и стена обозначала границу владений генерала Фэрфакса*, в те времена, когда здесь собиралось ополчение Кромвеля, когда в церкви Святой Марии, что на мосту, велись дебаты о свободе совести. В одном стихотворении Рандольф Генри Падуб воспроизводит речь, якобы произнесённую неким «копателем» во время дебатов в Патни.[8 - Дебаты в Патни (октябрь 1647 г.), в которых участвовали солдаты и офицеры парламентской армии, касались новых основ общественных отношений после победы сторонников парламента. «Копатели» («диггеры») – представители крайне левого крыла революционной демократии в Английской революции – требовали уничтожения частной собственности и раздела всех благ.] Падуб нарочно приезжал сюда посмотреть на реку в пору мелководья. Эллен Падуб писала в своём дневнике про эту поездку, про завтрак на траве: жареный цыплёнок и пирог с петрушкой. Воспоминания о Падубе, о покровителе Марвелла* генерале Фэрфаксе, обнесённый стеною сад, полный цветов и плодов, – и Роланд с Вэл не устояли перед соблазном снять квартиру с выходом в сад и видом на запретные красоты.
Когда наступала весна, сверху в окне брезжило жёлтое сияние – это распускались росшие плотным строем яркие нарциссы. К самому окну подкрадывались усики дикого винограда и, припадая круглыми присосочками к стеклу, со всей быстротой, на какую способно растение, спускались всё ниже и ниже. Иногда во дворик склонялись выбившиеся из-за ограды душистые ветки жасмина, который пышно цвёл возле самого дома. Но появлялась миссис Ирвинг в том самом садовом облачении, в котором когда-то завлекала квартирантов, – латаный-перелатаный твидовый костюм, фартук и сапоги, – появлялась и водворяла ветку на место. Однажды Роланд вызвался помогать ей по саду, а за это просил, чтобы она разрешила там иногда посиживать. В ответ он услышал, что в садоводстве не разбирается, что молодёжь нынче ничего не бережёт, а всё только ломает, что ей, миссис Ирвинг, дороже всего покой.
– То-то, наверно, кошки в саду хозяйничают, – предположила однажды Вэл.
А через некоторое время они заметили на потолке в кухне и в ванной сырые пятна. Роланд потрогал их пальцем, понюхал его и уловил отчётливый запах кошачьей мочи. Оказывается, кошки тоже томились под домашним арестом. Надо было бы подыскать другую квартиру, но заговаривать об этом первым Роланд не хотел: он иждивенец. И не нужно пока в их отношениях с Вэл никаких встрясок.
* * *
Вэл поставила перед ним жаркое из барашка под маринадом, овощное рагу и греческий хлеб – большую горячую лепёшку.
– Может, за вином сбегать? – предложил Роланд, но Вэл резко, не деликатничая, ответила:
– Спохватился! Пока пробегаешь, всё остынет.
Ели они за ломберным столиком, который потом складывали.
– Я сегодня сделал потрясающее открытие, – начал Роланд.
– Ну-ну.
– В Лондонской библиотеке. У них есть книга Вико из библиотеки Падуба. Его собственный экземпляр. Его в сейфе хранят. Я заказал, смотрю – в книге полным-полно собственноручных записей Падуба на всяких старых счетах. Между страниц. Я на девяносто процентов уверен, что их никто не читал. Как их засунули, так они и лежат. Края почернели как раз по обрез книги.
В ответ бесстрастное:
– Как интересно.
– Может быть, это переворот в науке. Точно-точно. Мне-то взглянуть разрешили, не отобрали. Про них наверняка никто не знает.
– Да уж конечно не знает.
– Надо рассказать Аспидсу. Он полезет проверять, есть ли там что-нибудь интересное, не успел ли Собрайл до них добраться.
– Да уж конечно успел.
Определённо она была не в духе.
– Прости, Вэл, я не хотел тоску нагонять. Но по-моему, страшно интересно.
– Это уж кого что греет. У каждого свои радости в жизни.
– Я про эту находку напишу. Статью. После такого открытия и работу будет легче найти.
– Работы никакой не осталось, – сказала Вэл и прибавила: – А если что и осталось, всё равно отдадут Фергусу Вулффу.
«Вэл в своём репертуаре», – подумал Роланд: он заметил, что это замечание давно вертелось у неё на языке, но она великодушно крепилась.
– Ну, если ты считаешь, что я занимаюсь ерундой…
– Ты занимаешься тем, что тебя греет. Как и всякий, кому повезло и кого хоть что-то греет. Ты возишься со своим мертвецом. Который возился со своими мертвецами. Ну и возись на здоровье, но не всем же на него молиться. А вот я просто халтурщица несчастная, но такого на своей халтуре нагляделась. На прошлой неделе в той фирме, что экспортирует керамику, беру со стола у начальника папку, а под ней фотографии. Как издеваются над мальчиками. Цепи, кляпы… Брр! На этой неделе у хирурга показываю класс – навожу порядок в регистратуре и вдруг натыкаюсь на историю болезни шестнадцатилетнего парнишки, которому в прошлом году ампутировали ногу. Сейчас ему делают протез – делают уже несколько месяцев, волынка страшная, – а у него на другой ноге началось то же самое. И он не знает. А я знаю. Я много чего знаю. Но всё какие-то обрывки, клочки, нелепости какие-то. Один тип полетел в Амстердам покупать алмазы, я помогала его секретарше заказать билет. Первым классом полетел, машина – блеск. И вот гуляет он по берегу канала, глазеет на фасады, а кто-то подошёл сзади и пырнул ножом. И всё: остался без почки, началась гангрена – и конец. Видишь, как просто. Вот так бывает с теми, на кого я халтурю: был – и нету. А записки Рандольфа Генри Падуба – это уж такая глухая древность. Так что прости, но мне нет никакого дела, что он там оставил в своём Вико.
– Послушай, Вэл, это страшно. Ты никогда не говорила…
– Ну что ты, это очень интересно – всякие там подробности, которые подсматриваешь на халтуре в замочную скважину. Только уж больно они нелепые, толку от них ни на грош. Я тебе, кажется, завидую: ты по крохам восстанавливаешь мировоззрение своего душки Падуба. Но тебе-то какой толк от твоих занятий, а, Кротишка? У самого-то у тебя есть мировоззрение? И как ты думаешь выбираться из этой дыры, в конце-то концов? Или так и проживем всю жизнь под потолком, с которого капает кошачья моча, так и будем сидеть друг у друга на голове?
Она чем-то расстроена, сообразил Роланд. Так расстроена, что несколько раз произнесла «греет» – словечко не из её лексикона. Может, кто-то её потискал? Или не захотел потискать? Нет, это подленькая мысль. Гнев, раздражение – это её стихия, это её «греет». Уж Роланд знает. Он вообще знает её чересчур хорошо, в том-то и беда. Роланд подошёл к Вэл и ласково погладил её шею. Вэл сердито фыркнула, нахохлилась, но скоро оттаяла. Чуть погодя они уже лежали в постели.
* * *
Он так и не рассказал, так и не смог рассказать ей про свою тайком совершённую кражу. Поздно вечером в ванной он ещё раз пробежал оба письма. «Милостивая государыня! Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту…», «Милостивая государыня! Я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе…» Настойчивые, недописанные письма. Пронзительные строки. До сих пор Роланда не слишком занимала давно закончившаяся телесная жизнь Рандольфа Генри Падуба. Тратить время на посещение дома на Рассел-стрит, сидеть, как, бывало, сиживал Падуб, на каменных ступенях в саду – это скорее в духе Собрайла. Роланду нравилось постигать работу ума Падуба, угадывать её в извилистом строе фразы, наблюдать, как она вдруг проступает в неожиданном выборе эпитета. Но эти мёртвые письма вызывали у него трепет – трепет прямо-таки физический. И всё из-за их незаконченности. В воображении возникал не Рандольф Генри Падуб, строчащий пером по бумаге, а только его пальцы, давным-давно истлевшие: вот они берут эти полуисписанные листки, складывают их, помещают в книгу. Письма не выброшены – сохранены… Кто она? Надо разобраться.
Глава 3
…В подземной мгле,
Где Ни?дхёгг,[9 - Ни?дхёгг – в скандинавской мифологии дракон, обитающий под землёй и подгрызающий корни мирового древа – ясеня Иггдрасиля.] аспидночешуйный гад,
У Древа-Миродержца средь корней
Склубившись, гложет их густую вязь.
Р. Г. Падуб. Рагнарёк, III
На другое утро, пока Вэл ещё наносила на лицо свою секретарскую раскраску, Роланд сел на велосипед и отправился в Блумсбери. Он ехал, с опасностью для жизни лавируя в автомобильном потоке, который растянувшимся на пять миль зловонным червячищем полз по мосту Патни, по Набережной, через Парламентскую площадь. Кабинет Роланда в колледже не был за ним закреплён, он просто занимал эту комнату с молчаливого согласия администрации, когда проводил индивидуальные занятия со студентами. Уединясь в тишине кабинета, Роланд распаковал нехитрый скарб, привезённый на багажнике велосипеда, и прошёл в подсобку, где возле мойки в чайных потёках, среди замызганных полотенец, примостился массивный ксерокс. Пока машина, урча и жужжа вентилятором, разогревалась, Роланд перечитал оба письма. Потом положил их на тёмное стекло, под которым прокатились зелёные сполохи. И машина выплюнула горячие, пахнущие химикатами листы со спектрограммами рукописных текстов: пустота по закраинам вышла на копиях чёрной, как у подлинников, окаймлённых чернотой вековой пыли. Совесть его чиста: он записал свой долг факультету в журнале учёта, лежавшем на краю мойки. «Роланд Митчелл, 2 стр., 10 пенсов». Совесть его нечиста. Теперь у него есть добротные копии, и он может незаметно сунуть письма обратно в библиотечный том Вико. Может, но не хочет. Роланду уже казалось, что письма принадлежат ему. Он всегда с некоторым презрением поглядывал на тех, кто млеет при виде всякой реликвии, хранящей прикосновение кого-нибудь из великих: щегольской трости Бальзака, флажолета[10 - Флажолет (фр. flageolet) – род продольной флейты высокого регистра.] Роберта Луиса Стивенсона, чёрной кружевной мантильи Джордж Элиот. Мортимер Собрайл имел обыкновение доставать из внутреннего кармашка золотую «луковицу» Рандольфа Генри Падуба и исчислять время по часам поэта. Ксерокопии Роланда были чётче и чище, чем выцветшие, рыжевато-серые строки подлинника, на копиях чёрные строки отливали свежим лаковым блеском: по-видимому, машину совсем недавно заправили порошком. Пусть так, но расставаться с подлинниками Роланд не хотел.
Когда открылась Библиотека доктора Уильямса, Роланд отправился туда и запросил рукопись объёмистого дневника Крэбба Робинсона. Ему уже случалось здесь бывать, но, чтобы его вспомнили, пришлось сослаться на Аспидса, хотя у Роланда и в мыслях не было посвящать Аспидса в своё открытие – по крайней мере до тех пор, пока он не удовлетворит своё любопытство и не вернёт письма на место.
Получив дневник, Роланд сразу же открыл записи за 1856 год – год публикации цикла «Боги, люди и герои», который неутомимый Крэбб Робинсон прочёл и не оставил без отзыва.
4 июня. Читал драматические поэмы из новой книги Рандольфа Падуба. Особенно примечательными нашёл три, где речь ведётся от лица Августина Гиппонского, саксонского монаха Готшалька*, жившего в IX столетии, и Соседа Шатковера из «Странствий Паломника». Также любопытнейшее изображение подлинного случая, когда Франц Месмер вместе с юным Моцартом музицировали на стеклянной гармонике при дворе эрцгерцога в Вене – произведение, написанное звучным стихом, полное странной напевности, превосходное и по замыслу, и по исполнению. Этот Готшальк, с его неколебимой верой в предопределение, предтеча Лютера – даже и в том, что отринул монашеский обет, – возможно, изображает собою кое-кого из нынешних евангелических проповедников. Сосед же Шатковер, должно быть, сатира на тех, кто, подобно мне, полагает, что христианство не есть идолопоклонническая вера в присутствие божества в куске хлеба, как не есть оно пять пунктов метафизического вероучения.[11 - Имеется в виду религиозная доктрина кальвинизма.] Рисуя Шатковера, который, надо думать, ближе ему по духу, Падуб, по своему обыкновению, выказывает к нему больше неприязни, чем к своему чудовищному монаху, в чьём неистовом рычании местами звучит истинное величие. Каковы же убеждения самого Рандольфа Падуба, разобрать невозможно. Боюсь, что стихи его никогда не будут иметь успех у публики. Его описание Шварцвальда в «Готшальке» очень хорошо, но многие ли сумеют продраться через предваряющие его богословские рассуждения? За извивами и хитроумной вязью его напевов, достигаемыми ценою насилия над стихом, за нагромождениями необычных и неосновательных сближений смысл делается неразличимым. Читая Падуба, я вспоминаю, как молодой Кольридж с упоением декламировал свою эпиграмму на Джона Донна:
Донн, чей Пегас верблюдом выступает,
В амурный вензель кочергу сгибает.
Этот отрывок был хорошо известен падубоведам и часто цитировался. Роланду нравился Крэбб Робинсон – человек, наделённый любознательностью и неутолимым желанием делать добро, души не чаявший в литературе и науках, но при всём том вечно недовольный собой. «Я рано понял, что не имею столько литературного дарования, чтобы занять то место в ряду английских писателей, о котором я мечтал. Но я расчёл, что у меня есть возможность завести знакомство со многими замечательными людьми нашего времени и приносить некоторую пользу, записывая свои с ними беседы». Кого только из великих он не знал! Целых два поколения знаменитостей: Водсворт, Кольридж, де Квинси, Лэм*, мадам де Сталь, Гёте, Шиллер, Карлейль, Д. Г. Льюис*, Теннисон, Клаф*, Баджот. Роланд прочёл записи за 1857 год и перешёл к 1858-му. В феврале Робинсон писал: