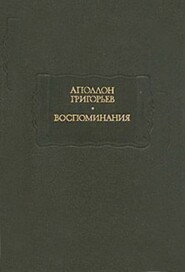По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Человек будущего
Жанр
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты не упрекаешь меня? – спросила она с радостью ребенка, который ждал упрека и услыхал слово любви.
– Я – упрекать тебя, моя сестра, мой друг, мое дитя, – говорил Виталин, целуя ее белокурые локоны. – Я упрекать тебя? Да ты с ума сошла?… Я, который мечтал видеть тебя Офелией Шекспира, тебя, живое повторение Офелии… И мои мечты сбылись? Знаешь ли, что это, может быть, в первый раз мои мечты сбылись?… Дитя, дитя, ужели ты думаешь, что я сам не был бы актером, если бы не мешали мне проклятая грудь и расстроенные нервы?
– Сумасшедший, – сказала она с улыбкою, поправляя локон, – ты все тот же сумасшедший, все тот же (продолжала она шепотом), который своим безумным учением чуть не… – она не договорила.
– А что?… ты забыла его?… – спросил Виталин полушутя, полугрустно.
– Забывается все, хотя грустно и горько, – отвечала она, задумчиво и склонив голову.
– А я тогда любил тебя, любил сильней, чем он, хотя не так порывисто.
– И говорил все о нем и умолял за него?
– Ты его любила?
– Да, и его и тебя, почти равно.
Виталин задумчиво взглянул на нее и потом прошептал почти про себя: «Быть может, его я любил тогда больше, чем тебя, больше, чем себя. Но что прошло, прошло, – продолжал он громко, – давно ли?…».
Карета остановилась перед одним из домов Малой Морской. Начатая речь осталась без окончания. Лакей отворил дверцы, спустил подножку… красавица выпорхнула и была уже на лестнице, когда Виталин только что вышел из кареты.
– За мною, – сказала она ему. – Иван, отпусти карету и вели приезжать завтра.
Виталин последовал за нею и остановился только, когда она дернула за звонок отделанной под карельскую березу двери, в третьем этаже.
Им отперла старушка в трауре и белом чепце и с удивлением взглянула на гостя.
– Анна Игнатьевна, Анна Игнатьевна, – вскричала она, – поскорее кофе, я иззябла, – и вслед за этим бросила на стоявший в передней комнате маленький комод свой роскошный салоп и побежала далее. Виталин за нею.
Анна Игнатьевна покачала ей вслед головою, свернула бережно салоп, повесила на крючок пальто гостя и ушла в боковую дверь.
Квартира нашей артистки была просто чиста и опрятна, но вкус женщины в размещении всего, какой-то стройный беспорядок сделали из нее изящную квартиру. Она состояла из четырех комнат: передней, кухни, в которую ушла Анна Игнатьевна, приемной, где стоял в углу тишнеровский рояль и как-то комфортабельно была расставлена немногочисленная мебель, и спальни, заменявшей и уборную.
Виталин сел на диван, стоявший у стены. Хозяйка скидала с себя перед трюмо в спальне шляпку и боа…
Перед диваном стоял рабочий столик и на нем лежала рукопись. При первом взгляде на эту рукопись по бледным губам Виталина пробежала ироническая улыбка.
– Послушай, какая у меня роль теперь будет! – сказала она, входя в приемную в одном уже платье, которое выказывало всю стройность ее стана.
– Что же? – отвечал он, перевертывая страницы рукописи. – Роль в самом деле недурна.
– Недурна?… Но ты не знаешь этой драмы!
– Я? – Он захохотал самым искренним смехом… – Помилуй, когда она моя и когда она мне вот где села, – прибавил он, показывая на шею, – благодаря… – он не договорил.
– И это твоя драма? – спросила она с каким-то детским восторгом и сложивши руки.
– Моя, точно так же, как это шитье твое, – отвечал он взявши какую-то бисерную работу.
– Ах, не трогай, пожалуйста, ты мне все перепутаешь… Послушай же, – продолжала она, садясь подле него и положивши на его плечо руку, – тебя ждет слава, Арсений, слышал ли?… тебя ждет слава, тебя ждут рукоплескания…
– Отдаю их тебе, если они будут. Ты думаешь, нужна мне твоя слава, ребенок, – отвечал он, играя ее локонами.
– Слава, рукоплескания! – возразила ему она с неистовым восторгом. – О нет, ты лжешь на себя, ты любишь славу, ты должен любить славу – ты гений.
– Гений! Наталья, Наталья, ты, верно, уж давно привыкла к этому слову. Но что мне за дело, – продолжал он с печальною улыбкою, – гений я или нет. Думаешь ли ты, что этого названия, что уверенности в этом названии станет добиваться человек, который много жил, чтобы думать о самом себе. О нет, – продолжал он, приподнявшись и пройдя два раза по комнате, – о нет, я не хочу твоей славы, я не хочу названия гения – и вовсе не из отвратительно-ложной скромности: нет, я вовсе не скромен, я знаю себе цену. Это, – сказал он, остановись перед нею и тоном совершенно холодным, взявши свою рукопись, – это – гадость страшная, гадость, от которой мне придется краснеть, но от того-то, что я краснею за нее, находят на меня минуты сатанинской гордости, сознание огромной силы в себе самом… И между тем, сознавая эту силу, клянусь тебе моею совестью, – я не хочу названия гения, я не хочу славы.
– Чего же ты хочешь? – спросила она, смотря на него с изумлением.
– Вот видишь ли, – начал он… – Так многое я ненавижу фанатическою ненавистью, так много я люблю безумною любовью. Так много есть такого, что хотел бы я пригвоздить к позорному столбу, с чем я обрек себя бороться до истощения сил, потому что от ложного уважения к этому страдаю я сам по-пустому многие, долгие годы, и верно страдает много безумцев, и нужно мне очень, чтобы меня наградили за это славою или позором? Только бы поняли, только бы один из страдающих братьев нашел в моих созданиях оправдание самого себя, своей борьбы, своих страданий…
Она глядела на него грустно, как глядят на сумасшедшего.
– Мои слова странны, не правда ли, – продолжал он с печальною улыбкою, – но этим словам, дитя мое, я продал всю жизнь, но все то, за что считали меня безумным, было служение этим словам, этим верованиям… Было время, когда и я встретил бы подобные слова в устах другого недоверием и иронией. Тогда я был счастлив, тогда я был молод, тогда я видел только себя в божьем мире и не верил, чтобы кому-нибудь, было какое-нибудь дело до других. Но я кончил жить для себя, кончил с тех пор, конечно, когда уже у меня не осталось ничего, чем бы я мог жить для себя!.. И с этих пор я живу одною ненавистью к прошедшему, одною любовью к будущему.
Глаза Виталина блистали фосфорическим блеском, на щеках его выступил болезненный румянец.
– Пророк, пророк, – вскричала Наталья, снова складывая руки.
– Да, пророк, если ты хочешь, только, бога ради, не гений, – отвечал он, садясь подле нее и проведши рукою по лбу. – Но оставим это… когда идет моя драма?
– В среду после Нового года.
– Я должен еще говорить с тобою о твоей роли.
– Хорошо… Но послушай, ты нынче у меня весь день?
– Пожалуй, когда это можно.
– Отчего же нельзя?
– Qu'en dira-t-on?[3 - А что будут болтать? (франц.),]
– Боже мой! из-за «qu'en dira-t-on» мы не виделись пять лет, – отвечала Наталья, – теперь я свободна, теперь я артистка, – прибавила она с чувством гордой самоуверенности, – и он опять с своим «qu'en dira-t-on».
– А кто тебе дал право пренебрегать мнением общества именно потому только, что ты артистка?
– Право? я взяла его сама, я не ужилась с обществом и отвергла его.
Виталин не мог удержаться от улыбки, потому что, хотя и верил в женщину вообще, но в каждой из них, взятой порознь, имел привычку уверяться только после долгих наблюдений.
II. Представление
В один вечер, не помню именно когда, но знаю, что это было незадолго до рождества, площадь Александрийского театра была исполнена особенного движения. Лихие извозчики и измученные ваньки беспрестанно подвозили к колоннам театра новых посетителей; по временам даже подъезжали кареты или, за недостатком их, патриархальные возки, из которых вылезало обыкновенно штук по шести женского пола и штуки по две мужского; как они там помещались, это уж загадка необъяснимая.
Ясно, что в Александрийском давалась новая пиеса, и с достоверностию полагать можно, что афиша оной пиесы была не менее как в два аршина длиною. Сени театра наполнялись все более и более новыми приплывающими толпами народа, чрезвычайно пестрыми и разнообразными! Чего и кого тут не было! Здесь наблюдатель мог бы в минуту, с помощию расписания мундирам, научиться узнавать безошибочно все вышивки, погончики, петлички[4 - Намек на фразу Скалозуба из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. III, явл. 12): «В мундирах выпушки, погончики, петлички».] офицеров разных полков и так же безошибочно уметь по цвету воротников относить чиновников к известным ведомствам.
Давалась, в самом деле, новая пиеса, только переводная с французского, под названием которой красовалась ярко и четко отпечатанная фамилия переводчика, с начальными буквами имени и отчества, выставленными, вероятно, из опасения, чтобы такой колоссальный подвиг не был приписан какому-нибудь однофамильцу. Пиеса была одна из тех, которые в блаженные тридцатые годы, когда еще свирепствовала новая французская литература, под именем неистовой юной французской словесности, приводили в ужас раздражительную, как mimosa pudica,[5 - мимоза стыдливая (лат.).] нравственность наших критиков даже одним своим названием,[6 - Г. сильно преувеличивает «безнравственность» названий комедий и водевилей 1820 – 1840-х гг.; вот наиболее «фривольные» заглавия пьес из репертуара петербургских и московских театров конца 1820-1830-х гг.: «Моя жена выходит замуж» (А. Писарева), «Супруги прежде свадьбы» (П. Каратыгина), «Заемные жены» (его же), «Муж и любовник» (Р. Зотова). Театральные критики русских журналов и газет постоянно ополчались на пошлость или безнравственность содержания комедий и водевилей, но их претензии к заглавиям ограничивались весьма умеренными замечаниями. Например, анонимный рецензент из надеждинской «Молвы» так оценил вычурное название одной комедии («Карл XII на возвратном пути в Швецию, историко-военно-анекдотическая драма в 4 д., служащая продолжением драмы: Карл XII при Бендерах, соч. доктора Тёпфера, перев. с немец. И. Г. Эрлинга»): «Справедливо негодуя на закоренелую привычку – пускать пыль в глаза и заманивать на бенефисы пышными объявлениями, длинными афишами к чудными названиями пьес, в гостях у г. Щепкина хотелось бы видеть что-нибудь подостойнее» (Молва, 1833, № 13Г с. 49).] действительно нередко затейливым.
– Я – упрекать тебя, моя сестра, мой друг, мое дитя, – говорил Виталин, целуя ее белокурые локоны. – Я упрекать тебя? Да ты с ума сошла?… Я, который мечтал видеть тебя Офелией Шекспира, тебя, живое повторение Офелии… И мои мечты сбылись? Знаешь ли, что это, может быть, в первый раз мои мечты сбылись?… Дитя, дитя, ужели ты думаешь, что я сам не был бы актером, если бы не мешали мне проклятая грудь и расстроенные нервы?
– Сумасшедший, – сказала она с улыбкою, поправляя локон, – ты все тот же сумасшедший, все тот же (продолжала она шепотом), который своим безумным учением чуть не… – она не договорила.
– А что?… ты забыла его?… – спросил Виталин полушутя, полугрустно.
– Забывается все, хотя грустно и горько, – отвечала она, задумчиво и склонив голову.
– А я тогда любил тебя, любил сильней, чем он, хотя не так порывисто.
– И говорил все о нем и умолял за него?
– Ты его любила?
– Да, и его и тебя, почти равно.
Виталин задумчиво взглянул на нее и потом прошептал почти про себя: «Быть может, его я любил тогда больше, чем тебя, больше, чем себя. Но что прошло, прошло, – продолжал он громко, – давно ли?…».
Карета остановилась перед одним из домов Малой Морской. Начатая речь осталась без окончания. Лакей отворил дверцы, спустил подножку… красавица выпорхнула и была уже на лестнице, когда Виталин только что вышел из кареты.
– За мною, – сказала она ему. – Иван, отпусти карету и вели приезжать завтра.
Виталин последовал за нею и остановился только, когда она дернула за звонок отделанной под карельскую березу двери, в третьем этаже.
Им отперла старушка в трауре и белом чепце и с удивлением взглянула на гостя.
– Анна Игнатьевна, Анна Игнатьевна, – вскричала она, – поскорее кофе, я иззябла, – и вслед за этим бросила на стоявший в передней комнате маленький комод свой роскошный салоп и побежала далее. Виталин за нею.
Анна Игнатьевна покачала ей вслед головою, свернула бережно салоп, повесила на крючок пальто гостя и ушла в боковую дверь.
Квартира нашей артистки была просто чиста и опрятна, но вкус женщины в размещении всего, какой-то стройный беспорядок сделали из нее изящную квартиру. Она состояла из четырех комнат: передней, кухни, в которую ушла Анна Игнатьевна, приемной, где стоял в углу тишнеровский рояль и как-то комфортабельно была расставлена немногочисленная мебель, и спальни, заменявшей и уборную.
Виталин сел на диван, стоявший у стены. Хозяйка скидала с себя перед трюмо в спальне шляпку и боа…
Перед диваном стоял рабочий столик и на нем лежала рукопись. При первом взгляде на эту рукопись по бледным губам Виталина пробежала ироническая улыбка.
– Послушай, какая у меня роль теперь будет! – сказала она, входя в приемную в одном уже платье, которое выказывало всю стройность ее стана.
– Что же? – отвечал он, перевертывая страницы рукописи. – Роль в самом деле недурна.
– Недурна?… Но ты не знаешь этой драмы!
– Я? – Он захохотал самым искренним смехом… – Помилуй, когда она моя и когда она мне вот где села, – прибавил он, показывая на шею, – благодаря… – он не договорил.
– И это твоя драма? – спросила она с каким-то детским восторгом и сложивши руки.
– Моя, точно так же, как это шитье твое, – отвечал он взявши какую-то бисерную работу.
– Ах, не трогай, пожалуйста, ты мне все перепутаешь… Послушай же, – продолжала она, садясь подле него и положивши на его плечо руку, – тебя ждет слава, Арсений, слышал ли?… тебя ждет слава, тебя ждут рукоплескания…
– Отдаю их тебе, если они будут. Ты думаешь, нужна мне твоя слава, ребенок, – отвечал он, играя ее локонами.
– Слава, рукоплескания! – возразила ему она с неистовым восторгом. – О нет, ты лжешь на себя, ты любишь славу, ты должен любить славу – ты гений.
– Гений! Наталья, Наталья, ты, верно, уж давно привыкла к этому слову. Но что мне за дело, – продолжал он с печальною улыбкою, – гений я или нет. Думаешь ли ты, что этого названия, что уверенности в этом названии станет добиваться человек, который много жил, чтобы думать о самом себе. О нет, – продолжал он, приподнявшись и пройдя два раза по комнате, – о нет, я не хочу твоей славы, я не хочу названия гения – и вовсе не из отвратительно-ложной скромности: нет, я вовсе не скромен, я знаю себе цену. Это, – сказал он, остановись перед нею и тоном совершенно холодным, взявши свою рукопись, – это – гадость страшная, гадость, от которой мне придется краснеть, но от того-то, что я краснею за нее, находят на меня минуты сатанинской гордости, сознание огромной силы в себе самом… И между тем, сознавая эту силу, клянусь тебе моею совестью, – я не хочу названия гения, я не хочу славы.
– Чего же ты хочешь? – спросила она, смотря на него с изумлением.
– Вот видишь ли, – начал он… – Так многое я ненавижу фанатическою ненавистью, так много я люблю безумною любовью. Так много есть такого, что хотел бы я пригвоздить к позорному столбу, с чем я обрек себя бороться до истощения сил, потому что от ложного уважения к этому страдаю я сам по-пустому многие, долгие годы, и верно страдает много безумцев, и нужно мне очень, чтобы меня наградили за это славою или позором? Только бы поняли, только бы один из страдающих братьев нашел в моих созданиях оправдание самого себя, своей борьбы, своих страданий…
Она глядела на него грустно, как глядят на сумасшедшего.
– Мои слова странны, не правда ли, – продолжал он с печальною улыбкою, – но этим словам, дитя мое, я продал всю жизнь, но все то, за что считали меня безумным, было служение этим словам, этим верованиям… Было время, когда и я встретил бы подобные слова в устах другого недоверием и иронией. Тогда я был счастлив, тогда я был молод, тогда я видел только себя в божьем мире и не верил, чтобы кому-нибудь, было какое-нибудь дело до других. Но я кончил жить для себя, кончил с тех пор, конечно, когда уже у меня не осталось ничего, чем бы я мог жить для себя!.. И с этих пор я живу одною ненавистью к прошедшему, одною любовью к будущему.
Глаза Виталина блистали фосфорическим блеском, на щеках его выступил болезненный румянец.
– Пророк, пророк, – вскричала Наталья, снова складывая руки.
– Да, пророк, если ты хочешь, только, бога ради, не гений, – отвечал он, садясь подле нее и проведши рукою по лбу. – Но оставим это… когда идет моя драма?
– В среду после Нового года.
– Я должен еще говорить с тобою о твоей роли.
– Хорошо… Но послушай, ты нынче у меня весь день?
– Пожалуй, когда это можно.
– Отчего же нельзя?
– Qu'en dira-t-on?[3 - А что будут болтать? (франц.),]
– Боже мой! из-за «qu'en dira-t-on» мы не виделись пять лет, – отвечала Наталья, – теперь я свободна, теперь я артистка, – прибавила она с чувством гордой самоуверенности, – и он опять с своим «qu'en dira-t-on».
– А кто тебе дал право пренебрегать мнением общества именно потому только, что ты артистка?
– Право? я взяла его сама, я не ужилась с обществом и отвергла его.
Виталин не мог удержаться от улыбки, потому что, хотя и верил в женщину вообще, но в каждой из них, взятой порознь, имел привычку уверяться только после долгих наблюдений.
II. Представление
В один вечер, не помню именно когда, но знаю, что это было незадолго до рождества, площадь Александрийского театра была исполнена особенного движения. Лихие извозчики и измученные ваньки беспрестанно подвозили к колоннам театра новых посетителей; по временам даже подъезжали кареты или, за недостатком их, патриархальные возки, из которых вылезало обыкновенно штук по шести женского пола и штуки по две мужского; как они там помещались, это уж загадка необъяснимая.
Ясно, что в Александрийском давалась новая пиеса, и с достоверностию полагать можно, что афиша оной пиесы была не менее как в два аршина длиною. Сени театра наполнялись все более и более новыми приплывающими толпами народа, чрезвычайно пестрыми и разнообразными! Чего и кого тут не было! Здесь наблюдатель мог бы в минуту, с помощию расписания мундирам, научиться узнавать безошибочно все вышивки, погончики, петлички[4 - Намек на фразу Скалозуба из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. III, явл. 12): «В мундирах выпушки, погончики, петлички».] офицеров разных полков и так же безошибочно уметь по цвету воротников относить чиновников к известным ведомствам.
Давалась, в самом деле, новая пиеса, только переводная с французского, под названием которой красовалась ярко и четко отпечатанная фамилия переводчика, с начальными буквами имени и отчества, выставленными, вероятно, из опасения, чтобы такой колоссальный подвиг не был приписан какому-нибудь однофамильцу. Пиеса была одна из тех, которые в блаженные тридцатые годы, когда еще свирепствовала новая французская литература, под именем неистовой юной французской словесности, приводили в ужас раздражительную, как mimosa pudica,[5 - мимоза стыдливая (лат.).] нравственность наших критиков даже одним своим названием,[6 - Г. сильно преувеличивает «безнравственность» названий комедий и водевилей 1820 – 1840-х гг.; вот наиболее «фривольные» заглавия пьес из репертуара петербургских и московских театров конца 1820-1830-х гг.: «Моя жена выходит замуж» (А. Писарева), «Супруги прежде свадьбы» (П. Каратыгина), «Заемные жены» (его же), «Муж и любовник» (Р. Зотова). Театральные критики русских журналов и газет постоянно ополчались на пошлость или безнравственность содержания комедий и водевилей, но их претензии к заглавиям ограничивались весьма умеренными замечаниями. Например, анонимный рецензент из надеждинской «Молвы» так оценил вычурное название одной комедии («Карл XII на возвратном пути в Швецию, историко-военно-анекдотическая драма в 4 д., служащая продолжением драмы: Карл XII при Бендерах, соч. доктора Тёпфера, перев. с немец. И. Г. Эрлинга»): «Справедливо негодуя на закоренелую привычку – пускать пыль в глаза и заманивать на бенефисы пышными объявлениями, длинными афишами к чудными названиями пьес, в гостях у г. Щепкина хотелось бы видеть что-нибудь подостойнее» (Молва, 1833, № 13Г с. 49).] действительно нередко затейливым.