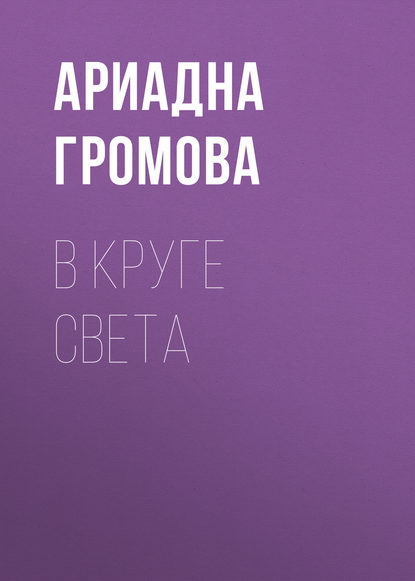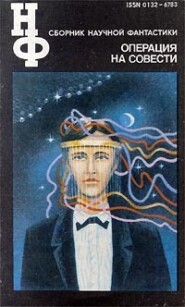По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В круге света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы, конечно, могли и раньше встретиться. Оба коренные парижане, оба медики. И возможно, все было бы примерно так же: ощущение прочной духовной связи, родства душ… Но в условиях лагеря все это приобрело обостренную и странную форму. Робер уверял меня, что тогда, при первой встрече, он остановился лишь потому, что его поразил мой напряженный взгляд, мои глаза. Кто знает, может, это так и есть. Активной стороной в нашей лагерной дружбе действительно был я. Активной или пассивной – это уж с какой точки зрения смотреть. Просто мне эта дружба была необходима, а Робера она поначалу тяготила, хоть он и любил меня. Потом, в гестапо и в концлагере, он иначе относился к нашей мысленной связи и даже научился извлекать практическую пользу из моих способностей, но вначале… Ну, это понятно: разве легко ощущать, что в любую минуту кто-то, пусть и очень дорогой тебе человек, может узнать, о чем ты думаешь, или увидеть тебя, когда ты не подозреваешь об этом. В лагере это не так неприятно, как в обычной жизни, ведь в лагере ты никогда не бываешь наедине с собой, и мысли как-то проще, конкретней, приземленной, но все же… Робер о телепатии кое-что слыхал раньше, но, как и большинство людей, не придавал этим разговорам никакого значения. Я для него был поразительным открытием. Дикарь на его месте объявил бы меня богом; средневековый человек сказал бы, что я одержим дьяволом; Робер Мерсеро, дитя XX века, посмеивался и поддразнивал меня, уверяя, что мне было бы полезней установить постоянную телепатическую связь с начальником лагеря, чтоб всегда быть в курсе его затей; на деле, однако, Робер хоть и любил меня, но слегка побаивался. Даже не то что побаивался, но…
Да, с ним это было уже настоящей телепатической связью. Я в любую минуту мог увидеть его, прочесть его мысли. Он – нет. Вначале. Потом и у него стала проявляться эта способность. Особенно в концлагере.
Воспоминания, нескончаемой чередой идущие воспоминания. Они начинают уже мучить меня, слишком они навязчивы – и те, яркие и неожиданные, вдруг всплывшие из неведомых провалов сознания, и те, что неотступно следуют за мной всю жизнь. Память – страшный дар, я это знаю по всей своей прежней жизни. Мне не надо было помнить в лагере о счастье и уж тем более не следовало так много помнить о лагере потом. Другие не все запомнили и редко вспоминали. Я запомнил слишком многое, я вспоминал слишком часто, и это сломало мне жизнь, отравило душу. Будь ты проклята, память, оставь меня в покое хоть сейчас, перед смертью, пожалей! Память о лагере, память о смертях и муках, унижении и позоре, память о страхе, непрестанном страхе, увечащем душу! Разве ты, сама по себе, не новый, изощренный вид пытки? Пытки, сконструированной как бомба замедленного действия? Чем дальше, тем сильнее терзает меня эта жестокая лагерная память, наследство страшных лет, тем больше отравляет и глушит она другую, светлую, благодарную память о счастье, о юности, о красоте, о любви, о свободе. Все обесценивается, обесцвечивается под ее разъедающим пристальным взглядом, и я снова, все чаще, чувствую себя узником N19732, вечным лагерником, у которого один путь к свободе – через трубу крематория.
Отец бормочет что-то успокаивающее и медленными, старческими, совсем уже старческими шагами отходит к своему креслу. И спина у него уже согнулась, и голова слегка трясется – боже, как он сразу постарел после смерти Женевьевы, да и что удивительного, какая это была верная подруга, и прожили они вместе целую жизнь… в самом деле, 42 года! Как я жалею его, как люблю… «Люблю? – спрашиваю я вдруг себя и вздрагиваю, словно от удара плетки. – А если – нет? А если – недостаточно?»
Нет, это тоже дьявольски хитрая пытка! Подлая, отвратительная пытка, бесчеловечная, унизительная! Поставить все в зависимость от моих чувств! Да какое же чувство, какая воля выдержит такой противоестественный груз и не надломится? Почему от меня можно ожидать того, чего не могли бы ждать от самых сильных?
«Кому ты жалуешься? – спрашиваю я себя. – Ведь некому жаловаться. Никто не в силах помочь тебе. Как на допросе. Как в лагере. Как да страшной крутой лестнице из каменоломни. Камень, который ты несешь на согнутой спине, непосильно тяжел, но, если ты упадешь под этой тяжестью, ты погибнешь сам и вдобавок столкнешь в пропасть других – тех, кто идет следом за тобой. Держись, тебе нельзя падать… Еще шаг, и еще шаг, и еще, и так без конца, под неумолимо палящим солнцем или под ледяным ветром…»
И все же это не то. Мускулы могут в конечном счете подчиниться воле. А любовь? Разве она зависит от воли, от добрых, от самых прекрасных намерений?
Любовь… В спорах с Робером – а мы часто спорили за последний месяц, когда Робер вернулся из Америки, – я всегда утверждал, что это и есть самая прочная и надежная защита, что разум не может спасти мир, разум сейчас поставил мир перед угрозой гибели и не в силах отвести эту угрозу. Только любовь, дружба, извечные, простые чувства, которые естественно и крепко соединяют людей и дают им силу жить, – только они могут противостоять гибели и хаосу.
– Всеобщая дружба? Всеобщая любовь? – сардонически улыбаясь, спрашивал Робер. – Оно бы, может, и неплохо, но ведь ты не об этом думаешь. Ты просто маскируешь словами свое дезертирство с поля боя. Пускай, мол, человечество устраивается, как знает, а мне – лишь бы семья хорошая была. Поразительно, как ты с твоим талантом и с твоей душой после всего, что пережито нами, мог скатиться в мещанское болото, стать шкурником, эгоистом, самодовольным обывателем!
Робер знал, что не прав, когда говорил мне все это. Он хорошо понимал, что я ненавижу мещан не меньше, чем он сам. А уж что касается самодовольства… Но он опять, как всегда, как в лагере, добивался, чтоб я шел его путем, а не каким-либо иным… А я и сейчас не знаю, правильно ли я поступал, когда вопреки самому себе делал то, чего хотел он. Может быть, я должен был искать свое… Впрочем, что я тогда знал! Когда мы встретились, мне было двадцать семь лет, а Роберу – двадцать три, но в нашем союзе старшим и более сильным был он. Это Робер организовал побег из эшелона; это он был одним из самых смелых, находчивых, энергичных работников подпольной организации там, в филиале Маутхаузена, куда мы попали после гестапо. Из-за него и я стал смелее, активней – вероятно, лучше и честней. Но все, что я делал в лагерях, было из-за Робера и для Робера. А теперь он и это считает моим недостатком… Конечно, со своей точки зрения он прав, я его понимаю.
«Пожалуй, напрасно он так много об этом думает… И главное, так волнуется… Все, оказывается, гораздо сложней, чем я думал… А впрочем, чего же можно было ждать?»
Воспоминания… Опять воспоминания… Как странно-ярко светит солнце – такой праздничный, щедрый, веселый свет! Где это я? Ну да, все ясно. Мы жили тогда в XIV округе, на шумной улице Алезиа. А маленькая Роз, дочь бакалейщика, жила рядом, на улице Саррет. Нам с ней было по тринадцати лет, и это была моя первая любовь. Я хорошо помнил всегда, что я испытывал, увидев Роз хоть издали. Я помнил ее звонкий, резковатый, но мелодичный голос – голос взрослой девушки; ее выразительные зеленоватые глаза, ее странную улыбку – когда Роз улыбалась, мне казалось, что она сердится. Но я многого о ней не помнил, а может, и не знал. Сейчас я вижу, как она идет ко мне под ярким солнцем, кокетливо склонив голову набок, и испытываю то детское чувство, смесь восторга и страха, счастья и жгучего стыда, которое запомнилось мне на всю жизнь, и одновременно странное, горькое и грустное чувство переоценки, гибели прежних бесспорных ценностей.
Прежде всего я с изумлением вижу, что Роз некрасива. Глаза у нее действительно живые и выразительные, но детской прелести в них нет – это глаза маленькой женщины, порочные, жадные, насмешливые. Рот у нее большой и бледный, лицо землистое, шея длинная, худая, голова кажется слишком крупной для ее маленького, тщедушного тела. Это дитя парижской улицы, рахитичное, малокровное, чуть ли не от рожденья посвященное во все тайны жизни. Теперь я понимаю, почему Женевьева была недовольна, когда видела меня в обществе Роз.
Роз – в немыслимо коротком зеленом платье, с поясом на бедрах и с короткой складчатой оборкой вместо юбки, почти ничего не прикрывающей. Платье вдобавок так вырезано и спереди, и сзади, и под мышками, что Роз шагает почти голая, но это ее ничуть не смущает – такова мода, даже пожилые дамы до предела укоротили юбки и увеличили вырез декольте. Вот идет одна, толстая, как мопс, раскрашенная, увешанная побрякушками. Я и Роз провожаем ее взглядом и фыркаем – как смешно, какие толстые ноги, какая жирная, дряблая шея и грудь, и что ей гнаться за модой, ведь старуха, ей уже тридцать, наверно, а может, даже и сорок. Почти все женщины острижены, как мальчишки, затылки «под нуль», небольшие чубики надо лбом. «Боже, что за нелепая мода!» – думаю я, а мой тринадцатилетний двойник и не смотрит ни на кого, кроме Роз, и она ему кажется самой прекрасной на свете. Он с замирающим сердцем касается ее руки, и меня вдруг пронизывает такое острое чувство – смесь ужаса и наслаждения, – что я вздрагиваю. В то же время я – теперешний – ощущаю, какая сухая, загрубевшая кожа у Роз, как выступают узловатые суставы на ее руках, слышу, что от нее пахнет смесью перца, корицы и дешевых приторных духов… Я морщусь от этого странного букета – и в то же время замираю от восхищения.
Все-таки очень странно… У меня всегда была хорошая память, даже очень хорошая, с самого раннего детства. Я поражал отца и Женевьеву тем, что помнил самые неожиданные и для меня даже не вполне понятные сцены и разговоры, о которых они, взрослые, давно забыли. Иногда бывало, что мотив какой-нибудь старой песенки или повеявший внезапно запах – особенно запах, у него наибольшая власть воскрешать прошлое! – вызывал в памяти целые картины, будто забытые. Но никогда не было таких странных воспоминаний, в которых я действительно помню или, вернее, ясно вижу то, чего никогда не помнил и даже толком не видел, хоть и смотрел. Вот и это, с маленькой Роз. Ведь я будто из зрительного зала смотрю фильм, героя которого играю я сам. И его ощущения соседствуют с моими. На что это похоже? Ведь это… да, больше всего это напоминает опыты с электродами, вживленными в мозг… или не обязательно вживленными, а только наложенными на череп… Но просто так, ни с того ни с сего… или все же эта проклятая радиация проникает сюда, хоть и в меньшей дозе, и мы, по-разному испытываем на себе ее воздействие? Да и как она может не проникать, ведь это обычная вилла, ничуть не похожая на атомное убежище.
«Боже, как это трудно! Его психика целиком настроена на трагический лад. А кроме того, он, как и положено ученому, старается докапываться до сущности явлений… А я устал до того, что… Нет, ничего не поделаешь, надо тянуть дальше…»
Откуда, откуда эта странная уверенность, что твоя воля, влияние твоей любви может противостоять всемирной гибели? Какая нелепость, если вдуматься! Ведь когда я спорил с Робером, речь шла совсем не об этом. Мы часто спорили в последнее время, и больше все об одном. О том… – ну, как бы это поточнее выразить? – о том, что должен делать человек, каждый отдельный человек, видя, что мир стоит на краю гибели. А в том, что мир стоит перед катастрофой, я убеждался с каждым днем все прочнее. Начиная с Хиросимы. Испытания в Бикини и трагедия японского рыболовного судна, Корея и Алжир, пластики наших «ультра», Вьетнам и расправы с неграми в Америке – все это были звенья одной цепи, симптомы одной и той же смертельно опасной болезни, поразившей человечество: разобщенности, взаимного непонимания и недоверия. Мир гибнет от этой разобщенности, и его не спасти никакими, пусть тысячу раз правильными призывами. Только внутри человека может родиться сопротивление, только любовь и дружба помогут преодолеть недоверие и бессмысленную вражду.
Робер высказывался в том же духе, что и всегда: совместные усилия… если парни всего мира… и так далее. Я от него это еще в лагере слышал. Он называл меня индивидуалистом, эгоцентриком, эгоистом – ну, словом, выдавал весь набор интеллектуальной ругани по адресу таких, как я. А я говорил, что нет ничего более ненадежного, чем все эти мифические общие цели в нашем разобщенном и враждующем мире. Людей труднее всего заставить действовать во имя общего блага, это давно было известно. А сейчас тем более: ведь сейчас понятия о добре и зле так противоречивы и опасно запутаны, как никогда еще не бывало в истории человечества. Я не философ и не политик – не в том смысле, что я не интересуюсь философией и политикой, а в том, что не претендую ни на какую самостоятельность в решении мировых проблем. У меня для этого не хватает и теоретических познаний и практического опыта. Я много читал и много пережил, это верно, но не изучал этих предметов специально… ну, в общем об этом не стоит даже распространяться. Просто я не гений, я обычный, рядовой житель планеты Земля. И я вижу, что эта моя любимая прекрасная Земля вот-вот превратится в радиоактивную пустыню.
Я, Клод Лефевр, рожденный накануне первой мировой войны и участвовавший во второй, песчинка, былинка, муравей, – что я должен делать, чтоб помешать чудовищной и бессмысленной катастрофе? Я вижу, что политики никак не могут договориться друг с другом, а опасность все растет, и в любую минуту можно ждать катастрофы. Что мне делать? Я не могу спасти мир, я не бог. Но я думаю, что можно спасти хотя бы часть человечества от гибели…
– И ты это можешь сделать один? – спрашивает Робер; я отчетливо слышу его голос.
– Да, на своем участке я один. Пусть каждый обеспечивает свой очаг сопротивления, свой участок. Если все или хотя бы многие сделают так, бой за человечество пусть не будет полностью выигран, но и не приведет к бесповоротному поражению и всеобщей духовной гибели. Мир можно спасти не мифическими «совместными усилиями», этим бумажным копьем, нацеленным в пустоту, а чувством личной ответственности за свое конкретное дело. Я здесь стою, я отстаиваю этот пункт, этих людей, за которых отвечаю и с которыми связан.
– Нелепость! – восклицает Робер. – Психология рядового, который убежден, что в штабах ничего не смыслят.
– А ты уверен, что там смыслят?
– Не очень уверен. Но одни рядовые никогда не выигрывали войну, даже если каждый из них до конца отстаивал свой участок фронта. Они отступали или погибали. Но не побеждали.
– Я не хочу сдаваться без боя. А вести бой в масштабах фронта не могу. Я отвечаю только за свою огневую точку.
– Да это у тебя не бой! Это уход от боя! Какая там огневая точка – просто ты рекомендуешь всем спрятаться в свои дома и носа не высовывать. И вдвойне лицемеришь: ну, у тебя есть телепатическая связь с близкими, но ведь ты же знаешь, что у других такой связи нет. Допустим, ты спасешься, и Констанс, и дети, ну, а другие?
Воспоминание это – или разговор продолжается сейчас? Ну, конечно, что это со мной? Робер сидит тут, рядом со мной, в библиотеке, и на его лицо падает тот же мутный, зловещий свет сквозь пыльные стекла.
– А я и не заметил, как ты вошел, – неуверенно говорю я и вдруг чувствую странную усталость. – Может, я спал?
– Да, ты спал. И говорил во сне, – подтверждает Робер. – Ты и во сне продолжаешь спор со мной.
– Я все время об этом думаю. Да и что удивительного!
– Как ты считаешь теперь: ты победил в этом споре? – глядя на меня в упор, спрашивает Робер.
У меня такое ощущение, будто громадная тяжесть навалилась мне на грудь и на голову. Я с трудом выговариваю:
– Я не знаю, можно ли назвать это победой. Я не того ждал. Я и сейчас не понимаю, почему мы все живы.
– Ты перестал верить в свой дар?
– Не в этом дело… То, что сейчас происходит с нами, не имеет ничего общего с телепатией…
– Имеет. Другого объяснения ведь нет. Значит, ты сам не понимаешь границ своих возможностей. Ты же не захотел заниматься теорией и знаешь лишь то, что дал тебе личный опыт. А личный опыт всегда ограничен, даже у тебя.
«В самом деле, – опять думаю я, – что мы знаем о телепатии, тем более в таких необычных условиях? Кто мог бы заранее предсказать, как очень прочная и глубокая телепатическая связь, возникшая в нормальных условиях, будет проявляться в условиях совершенно исключительных, небывалых, в абсолютно изменившейся среде, свойства которой, в свою очередь, не изучены (да и будут ли когда-либо изучены)? Да, необычные, чудовищные, невообразимые условия! Дело даже не в том, как влияет на нас радиация (хотя она не может не влиять, я в этом убежден), а прежде всего в нашем безграничном, безнадежном одиночестве, в том, что мы – крохотный островок жизни, чудом уцелевший среди океана тьмы и смерти… Надолго ли, кто знает?»
– Но рассуждай же спокойней и логичней! – снова вмешивается Робер. – Почему бы не быть другим «островкам»? Хотя бы и на телепатической основе? Разве мало на свете людей, которые занимались телепатическими опытами и в то же время были глубоко связаны любовью или дружбой с другими? Наконец, в Индии – там ведь йоги проделывали поразительные опыты: обходились подолгу не только без пищи и воды, но и без кислорода. Почему бы им не научиться противостоять радиации?
– Йоги… возможно… – неохотно отвечаю я. – Но Индия так далеко…
– А может, рядом с тобой, во Франции, есть люди, которые успели достичь того же, что и ты?
Все так же льется пыльный, мутный свет из высокого окна библиотеки. Я вижу перед собой смуглое, резко очерченное лицо Робера, его блестящие карие глаза. Но мне трудно шевельнуться, я лежу в кресле, словно скованный невидимыми цепями. Я пытаюсь встать и не могу. Что со мной?
– Вспомни еще, – говорит Робер, пристально глядя на меня, – недавно мы с тобой читали об этом загадочном острове Ниуэ, где люди издавна, а может, извечно живут и благоденствуют при убийственно высокой степени радиоактивности. Они высокие, сильные, красивые, у них рождаются здоровые, полноценные дети. Кто знает, может быть, есть люди, от природы способные переносить радиацию. Наверное, их немного, – но, может быть, больше, чем можно предположить a priori? Достаточно для того, чтобы не дать человечеству исчезнуть с лица земли?
– Возможно… – бормочу я. – И что же? Ждать? Терпеть? Надеяться?
– Твоя задача, – Робер не спускает с меня глаз, и мне кажется тяжелым, материально весомым этот неподвижный пристальный взгляд, – твоя задача состоит именно в том, что ты раньше наметил для себя: отвечать за свой участок. Если ты сможешь уберечь всех нас, отстоять этот опорный пункт, бой будет выигран.
– Но почему? – вяло протестую я. – Откуда у тебя уверенность в том, что есть другие, есть надежда для человечества?
– А ты сам? – не отводя от меня своих тяжелых глаз, спрашивает Робер. – Разве ты сам в это не веришь?
На минуту я совершенно отчетливо ощущаю, почти вижу: Робер знает нечто крайне важное, скрытое от меня. Я вздрагиваю, пораженный этим ясным, безошибочным ощущением, мне хочется спросить: «Что же это?» Но Робер вдруг ласково улыбается, проводит рукой по моему лбу, говорит:
– Ну что ты? Что с тобой? Успокойся! Тебе надо заснуть!
Я все еще ощущаю это его загадочное знание. Я успеваю даже подумать: «А вдруг эта занавеска там, в доме на холме…» Но потом все мысли смывает сладкая, блаженная усталость. Я засыпаю мгновенно. Я слишком устал.
Когда я просыпаюсь, передо мной сидит Валери. Должно быть, я спал недолго – солнце стоит так же высоко, и тот же мутный желтоватый свет заполняет комнату, – но чувствую я себя отдохнувшим и свежим. Я легко встаю с кресла.