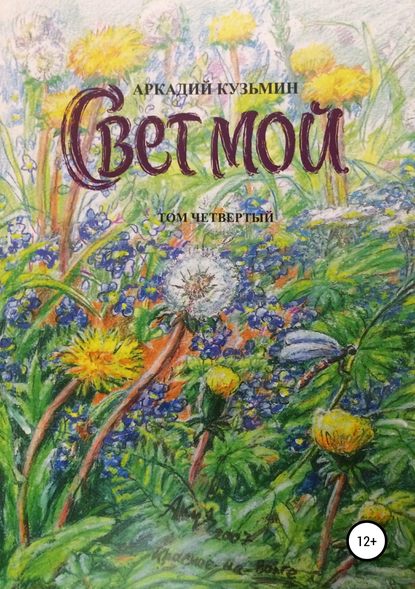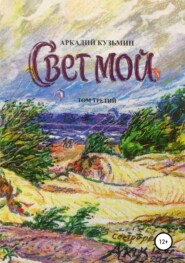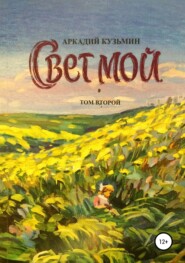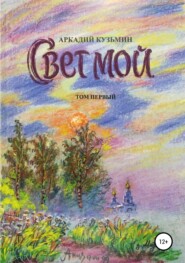По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А материнское сердце ноет, ноет. Ведь оно – за все в ответе: как они? Что с ними? Захочется хотя б одним глазком взглянуть на них, чтобы лично самой удостовериться, задалась ли у них жизнь. Ведь растишь их безумно тяжело. Сумела ль им вложить разумное, отрадное? В одночасье соберешься в дальнюю-предальнюю дорожку и помчишься куда-то сломя голову, со стучащей в груди надеждой. – Ее истрескавшиеся губы задрожали мелко. – Но ежели теперь я такую даль прокатаю зря…
– У молодежи нынешней полярности больше, но и больше честности, правдивости и откровенности, – доказывал мне один отец очень способного ребенка, – сказал Антон. – Может, он и прав.
– Как бы равнодушная честность их не погубила, вот чего боюсь. – Морщины набежали на лоб Нины Федоровны. – У меня их было четверо, но девочка умерла в семь лет. – И после продолжала. – Губительно то, что теперь у молодежи нету того настроения, чтобы мастерить для дома, у дома. Все чаще нужно смотаться куда-нибудь. Смотришь – и друзей насоберет по пьянке. Фланируют бесцельно по панели. Басурманничают. Учатся через пень-колоду. Что ж взрастится из них?
– Вот этой зимой, – сказала Люба, я в туфельках в сугроб залезла: навстречу мне шагали табуном подростки – восемь-девять человек, весь тротуар загородили. Идут еще пересмеиваются надо мной. Довольные своим парадом. Я полные туфельки снегу набрала, но промолчала. Не то бы в лицо получила наверняка. Я вспоминаю золотую компанию брата. Случалось, что они, друзья, и выпивали на радостях, и пели дивные студенческие песни на улицах, но чтобы их сторонились с опаской прохожие, как сторонятся сейчас юнцов, – никогда. Они и сейчас такие же восхитительные, компанейские. А ведь братино поколение росло после военного, которое вообще золотое: его никто не тыкал, чтобы приучить к труду, к занятиям, – условия сами заставляли. Приходилось собственным умом доходить до всего.
– Удивляюсь только, дети, как мы живы остались – столько пережили. Мясорубка какая была – всех крошили.
– Человек – самое живучее создание, – сказал Антон.
– Нашему поколению досталось.
– Да.
– Молодости нашей.
– Да.
– Поэтому, наверное, закалились наши сердца.
В купе вернулся Коля, и Нина Федоровна допросила его со строгостью:
– Ты, что, окна там открыл? – И зябко свела плечи: – Отчего то я замерзла вся, сыноченьку.
– Нет, вроде они закрыты, – протянул он в нерешительности и тихонько сел в уголок.
– Не знаю, – заоткровенничала снова Нина Федоровна. – Не знаю про других. Моим-то сыновьям нужна была помощь в выборе профессии. Может, любовь к делу и по наследству передается, не спорю; видимо, все зависит от того, у кого какое призвание и какая пригодность к чему. У соседей сын Сережа еще с сызмальства ладил, что будет моряком и, начиная с того возраста – лет с шести – форсил во всем морском, с отца перешитом. Все сочли, что это несерьезно; как бывает, по-ребячьи. А вырос Сережа – и точно: подался в матросы, когда его призвали на действительную службу. Там, на флоте, он несколько специальностей приобрел. Разве это плохо? А мы-то сыновьям все советовали да внушали, что им лучше избрать. После наших настояний старший поступил в военное училище. В Москве. Средний – тоже. В Благовещенске. Коле же еще десять классов закончить нужно. Я на него ругаюсь отчего? Оттого, что он отчасти тоже нездоров. А у меня все осложняет еще и вторая серьезная болезнь… Обнаружилась… В этот раз в Москве (мы поэтому еще сюда поехали) я всех врачей исходила – показывалась им. И все они, особенно один со званием, моложавый, обходительный и проницательный, меня предупреждал, что гублю себя. Они настаивали на моей немедленной госпитализации для проведения операции. Но, право, не могу сейчас в больницу лечь: весь дом веду. Если лягу, – все нарушится, расстроится.
– Ладно ль будет, Нина Федоровна? Или я ослышалась, что двое ваших сыновей уже женились и живут отдельно?
– Верно: отделились от меня. Ну, и что ж!
– Вот и следует вам теперь подумать о себе – полечиться.
– Это не меняет для меня ничего и не может изменить, – упрямилась Нина Федоровна, поджимая упрямо губы, слегка оттененные заметной полоской усов. – На любви свет держится. Мне слишком жаль того пропавшего пушистого ангорского кота. И то – переживанье. А уж сыновья мои, хоть и женатые, здесь сидят, – ткнула она в свое сердце, – как заноза. У меня все полочки в голове ими заняты. Волею судьбы и волею бога я призвана быть их неотделимой частью.
Запахло свежестиранным постельным бельем: проводница принесла его – на нижние полки, – верхние были застелены, заправлены.
VI
Напоследок она затянулась докуренной папироской. Ловко потушила ее и кинула в прикрепленную к стенке пепельницу, звучно щелкнув крышкой:
– Тот чудный кот пропал у нас зимой, полтора года назад, когда Коля оперировался. Все-таки сдается мне, что это работка Любы, озлобленной на все и всех и психованной соседки, частенько досаждавшей мне, как я попадала в поле ее обостренно-завистливого зрения. Была вся на виду.
– Васька очень верный, умный был. – Вернувшийся уже в купе Коля улыбнулся застенчиво, лишь краешком пухлых губ: – Весь розовый, с белой грудкой. Десять килограмм весу.
– Ого! Ничего себе котище!..
– Коля приволок его откуда-то. – Поспешила дорассказать Нина Федоровна. – Кот приблудный, но на редкость смирный, послушный и сообразительный – неописуемо редчайший кот. Всеобщий любимица, в особенности малышни. Его воспитали же матросы – народ доблестный, хороший. В дом он ни одну животинку не впускал: был его бессменным сторожем. На задние лапки становился. Почти вытанцовывал под баян. Проказничал. Таскал у меня валерьяновку и с блаженством нюхал; он все подряд нюхал – ничего не пропускал, а валерьяновку – особенно нахально.
Тогда я из-за него в пух и прах (себя не узнаю) отчитала соседку Любочку, визгушку, люто ненавидящую и животных. Перекинулись мы с ней лихо. – Нина Федоровна со смущенной усмешкой качнула головой. – Тогда Колю прихватило. Васька наш еще вертелся под ногами, мешал всем. Учуял, что запахло валерьянкой, да на стол, что сумасшедший, вспрыгнул. Ваську вдесятеро рук ловили – изловили, вышвырнули вон. А он, сметливый пройдоха, шмыгнул в приоткрывшуюся дверь, промеж наших ног, и опять ошалело взвился на стол, завертелся среди аптечных пузырьков с настойками. «Ну, ясно, отчего он ошалел», – проронила докторша.
Колю на носилки положили и вот скорей – в машину санитарную. Он в столовой отравился. Причем думали, что у него перитонит; оказалось же – воспаление брюшины, могли быть не менее тяжелые последствия. Повезли его в районный военный госпиталь. Однако этот ни за что не принял. Развернулись и – в окружной, и здесь тотчас взяли, без излишних препирательств, в отделение определили. Да как он, бедный, в одной нижней рубашке лежал пластом на спине на брезентовых носилках, укрытый сверху шубами, да по двадцатипятиградусному морозу таскали его туда-сюда, так он позвоночник-то и застудил. Нужно класть его на операцию, а у него температура подскочила к тридцати девяти градусам, нипочем не понижается: делать операцию нельзя и нельзя не оперировать – все опасно далеко зашло. Все же сделали ее.
Он несколько суток не приходил в сознание. Коля больной, и я немного слегла. Как пойдет, так и пойдет… Бегаешь, как рысь. С темна до темна… Все делаешь своими руками. Сгоряча я еще поднялась с постели, кое-как ковыляла, слабая, – мы с моим мужем, Тихоном, каждый день наведывались к сыну, – а потом я совсем ослабла. Чуть подвигаешься – сразу мокрая вся, как гуня. Я занемогла надолго. И экзема отметила Тихона, предрасположенного к ней: все руки у него багровыми струпьями покрылись. На нервной почве. Излечению не поддавались. Забинтованный, как мумия, был. Он диетой и сейчас еще ее выводит.
Вот, слава богу, Коленька выдюжил… Его, спасла выносливость. У него выносливое сердце.
Я не пожалуюсь: в детстве он ничем особенным не хворал; как ни туго и ни худо нам порой приходилось, я все-таки и его уберегла от острых хворостей. Сама недоедала, на одежде экономила, но пуще всего заботилась о том, чтобы дети физически окрепли. На еду им не жалела средств. И он рос каким-то немороженым, всегда грудь нараспашку. Лазал по деревьям, карабкался на крышу, на самую верхотуру. А в футбольных и всяких подвижных играх норовил он со взрослыми тягаться. И это, наверное, помогло ему в критический момент: пособило выкарабкаться. Это-то – в его настойчивости.
Но из-за нее теперь не знаем, как в дальнейшем лучше выбрать ему путь. Он же только семь классов закончил, и ему пятнадцать лет с половиной.
– Неужели? – не поверил Антон. – Что, может, отстал из-за болезни?
– Нет, нисколько; целый год он потерял: сперва не захотел идти в школу.
Было странно услышать это от нее.
– Отказался, что ли? Не послушался?
– Нет, с ним было еще хуже в том ребячьем возрасте… – И она замялась, взглянув на Колю и точно размышляя секунду, сказать или нет. – Он дичился всех подряд, что нередко бывает в случае, если это не детсадовский, а домашний ребенок. Не привык к детской многоголосице, терялся в ней. Я ведь долго была неработающей женой, идеальной домохозяйкой, так что могла себе позволить блажь – воспитать своих ребят испытанным старым образом, в естественных семейных условиях, не причесывая их ершистые характеры. А добилась, что дичливый Колинька в самый расторжественный для нас час подвел меня: смалодушничал – забился под кровать трусливо и не вылезал, несмотря ни на какие уговоры, обещания. Я ему уж говорю поласковей, пообходительней, что вот пойдешь учиться – и тогда шофером станешь (нравились ему шоферы – грезил ими). А он горько, безутешно плачет под кроватью: «Да! А я мальчишкой хочу быть, и все; я мальчишкой буду, вот…» Мне жалко и его, жалко и себя. «Ну, мальчишкой, – сдаюсь, – вылезай; а не то и сама зареву белугой, заодно с тобой, – посоревнуемся, кто голосистее…»
Коля, веселее улыбаясь и краснея, слабо дважды попросил:
– Мам!.. Ну, мам!..
– «Что же ты, герой, будешь неучем?» – внушаем ему, – не слушала его, или просто не слышала его робкого протеста мать. «Нет, я с мамой буду жить», – упрямствует он и ревет несчастно – дрожит весь, что листочек. Спасовали мы, большие дурни. Видно, вовремя не настроили его психологически. В то время было опубликовано постановление – чтобы в школу принимать с восьми лет. А ему семь с половиной было. Рассудили мы: беда не велика – он на следующий год пойдет учиться. А на будущий год ему стало уже восемь годков с половиной.
Еще только-только тогда ввели школьную форму, – торопилась рассказывать Нина Федоровна, – и ее еще не продавали в наших захолустных магазинах. Я за нею специально съездила в Москву – привезла ее ему из ГУМа. И теперь он сам засобирался в школу. Первого сентября он в нее снарядился и, безмерно горделивый, сияющий, пошагал с тугим портфелем; за ним высыпал весь край завороженных девчонок и мальчишек: ведь ни у кого еще не было такой красивой ученической формы! Знаете, с блестящими медными пуговицами и с широким кожаным ремнем с большущей медной бляхой, надраенной тоже до огненного блеска его отцом – кадровым военным. А явившись домой с уроков, он мне повинился неожиданно, что сглупил прошлой осенью: он уже жалел упущенное время.
– Что, самостоятельно, Коля, так решил? – спросила Люба. И тот утвердительно кивнул, пряча глаза.
– Увидел то, что сверстники уже во второй класс пошли, а он – только еще в первый, что по-зряшному учебный год пропустил: только из-за своего упрямства, договорила Нина Федоровна. – Это-то позднее у него начало, и выливается в безвыходность. Может, оформить ему паспорт в Севастополе, как его уроженцу. И он поступит куда-нибудь в ремесленное училище и совместит с учебой в вечерней школе? В дневной-то он десятилетку не успеет кончить: служить в армию возьмут – его годы пройдут. Вот что.
– После службы наверстает, если пожелает.
– Ума не приложу: как быть? Посудили-порядили мы семьей, но ничего толкового не придумали. Не придумать нам.
VII
Нина Федоровна, встав и выпроводив Колю из купе, взялась стелить две постели – наверху и внизу. Но, постелив их наскоро, с заговорщическим видом присела снова:
– Беспокоюсь я о нем оттого, что тревожно в мире, – успеет ли он пожить по-человечески, не так, как нам довелось жить-отживать в войну? Мы такую святость совершили: наземного черта, чудовище укоротили. Не околели – одолели. А политики без царя в голове сызнова раскручивают страсти, атмосферу накаляют. В Китае обстановка ухудшается, все военизируется – видно нам через Амур. Ох, крута горка, да забывчива! Иные дельцы все рассчитывают, что планета в обратную сторону пойдет.
– Ну, не те времена наступили все-таки, – сказал Антон.
– Человеку нужен спокой золотой. Человек вперед глядит. Сколько посеет, столько и пожнет. А сколько будет сеять, сколько жать… Золотое времечко пройдет. И поэтому повально все торопятся жить. Все свадьбы-то превратили в чисто коммерческие сделки. Женщины публично в халаты вырядились, таки, что тело до пояса видно; и на коленях полы распахиваются так, что все в открытую блестит, сверкает. Женщины решили себя показать во всем ослеплении. Ну, а ваш брат тоже хорош, – взглядом Нина Федоровна просверлила Антона. – Девушки приглядываются, как им лучше замуж выйти – это у них кровное, историческое, а молодой человек – чтобы была она красивой и чтобы обязательно имела квартиру. Так, послушаешь повсюду – что сейчас всех занимает: все, кроме нравственной проблемы: она – постольку-поскольку. Из-за этого и дети перессорились с родителями, и родители с детьми. Я наездилась везде, и у вас тоже – в автобусах, в метро, в лифтах, в электричках, насмотрелась всего и смело могу теперь сравнивать. В жизни сегодняшней, пожалуй, то же самое, что в переполненном автобусе в час пик: толкучка… А мой вахлак и без толкучки, – развивала Нина Федоровна свою мысль, – так неудобно развернется, встанет поперек хода, что всем мешает, но будто и невдомек ему: еще недвусмысленно дает тебе понять, что это ты ему мешаешь, застишь свет. И норовит-то пень поднажать, сдвинуть тебя с места сильным мужским плечом. Ну, уступишь такому, подвинешься от греха подальше, – говорила она загадками. – Я страсть не люблю, когда ко мне цепляются ни с того, ни с сего. Все в груди поднимается волной и в голову ударяет…