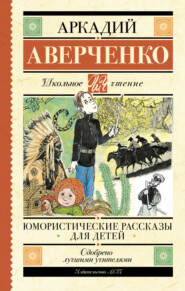По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черным по белому (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я говорю нравоучительно:
– He судьба должна управлять человеком, а человек судьбой.
– Никак, – говорит, – это невозможно. Без судьбы ничего быть не может.
– А если я сейчас вдруг схвачу тебя и брошу с террасы вниз, в кусты… Это что?
– Тоже судьба.
– А если не схвачу и не сброшу?
– Тоже судьба!
– Да какая же это судьба, если мой поступок зависит от моей же воли?!
– Пусть зависит. А твоя воля зависит от судьбы.
– Тьфу! Ну, хочешь, я тебе докажу чем угодно, что по своей воле выкину штуку, до которой судьбе никогда бы и не додуматься?
– Это, – говорит приятель, – положим, тоже натяжка, потому что всякая штука твоя от судьбы зависит. Но – идет. Согласен.
– Прекрасно. Сочини что-либо трудное, нелепое, и я это проведу без всякой судьбы. У судьбы, милый мой, много дела и без нас – нечего ее по пустякам затруднять. Гоп!
Мой друг обвел глазами столики и сказал:
– Видишь ты ту молоденькую венгерку, которая сидит с пожилой дамой, очевидно, с матерью?
– Вижу.
– Ну-с… хочу я, значит, чтобы у нее был ребенок… Хм… От кого бы?
Он осмотрел рассеянно все столы, и взгляд его задержался на каком-то господине, одиноко сидевшем в дальнем углу.
– Вот от этого худосочного русского молодца! У него или слишком мало радостей, или очень много печали. Наградим его венгеркой, а?
Я пожал плечами.
– Венгерка так венгерка. Но слушай: как честный человек, за одно только не могу поручиться…
– Именно?
– За пол будущего отпрыска русско-венгерской фамилии. Ты сам, конечно, понимаешь…
– Для судьбы ты слишком многословен. Я предпочитаю видеть работу.
III
Я закурил папиросу, встал и приблизился к одинокому русскому.
– Простите, что, не будучи знаком, обращаюсь к вам с одним вопросом: сколько времени идет письмо до Петербурга? Эти бестолковые итальянцы ничего не знают.
– Письмо? Четыре дня.
– Весьма вам признателен. Вы надолго в эту дыру?
– Нет… Так, недели на две. Не присядете ли?
– Merci. Вы что же, – спросил я, опускаясь на стул, – в одиночестве тут? Без жены?
– Да я и не женат совсем.
– Ну?! Вот-то она обрадуется! Ах… простите… я, кажется, сказал лишнее.
– А что такое? Кто обрадуется? О ком вы это говорите «она обрадуется»?
– Не знаю, – смущенно засмеялся я. – Говорить ли вам… Это будет, пожалуй, разбалтыванье чужого секрета. Хи-хи…
– Нет, уж вы, пожалуйста, скажите. Это будет между нами. Ну, скажите! Ведь я любопытен, как женщина.
– Хи-хи… И сам не знаю, как это я проговорился. Ну, ладно… Если вы даете честное слово, что это между нами… Видите вы ту венгерку, около седой дамы? Красавица, не правда ли?
У венгерки было самое ординарное, миловидное лицо, но мой восторг заразил и бедного форестьера.
– О, да! Очень красивая.
– Ну вот… Так знаете ли, что у этой красавицы, у этой поразительной, изумительно прекрасной девушки вы с языка не сходите?!
Мой собеседник вспыхнул и конфузливо и радостно засмеялся, будто его щекотали.
– Ну, что вы говорите! Да неужели?! Нет, нет! Вы шутите… Это было бы прямо-таки… удивительно!
– Честное слово! Она меня прямо измучила вопросами… Кто такой, да что, да не женат ли? Все о росте вашем сегодня щебетала…
– А… что? – опасливо спросил мой собеседник, вероятно, не раз огорчавшийся, сравнивая свою мизерную, низкорослую фигуру с фигурами своих ближних.
– Да, многое она говорила. И что терпеть она не может высоких мужчин, и что ваша фигура приводит ее в восторг, и что, если бы… Впрочем, нет, я, кажется, слишком разболтался…
– Так она меня заметила? – переспросил мой собеседник, с трудом сохраняя рассеянно-задумчивый вид.
– Она-то? Да она околдована.
Я помолчал и вдруг решил махнуть рукой на всякий здравый смысл:
– Вчера, нашла, что в вашем лице есть много общего с Наполеоном.
– Ну, что вы говорите!
– Ей-богу. В таких людях, говорит, таятся великие, огромные силы. Счастлива, говорит, та родина, которая может назвать такого человека своим сыном. Спрашивала, не поете ли вы? С таким, говорит, голосом, который звучит, как музыка…
– He судьба должна управлять человеком, а человек судьбой.
– Никак, – говорит, – это невозможно. Без судьбы ничего быть не может.
– А если я сейчас вдруг схвачу тебя и брошу с террасы вниз, в кусты… Это что?
– Тоже судьба.
– А если не схвачу и не сброшу?
– Тоже судьба!
– Да какая же это судьба, если мой поступок зависит от моей же воли?!
– Пусть зависит. А твоя воля зависит от судьбы.
– Тьфу! Ну, хочешь, я тебе докажу чем угодно, что по своей воле выкину штуку, до которой судьбе никогда бы и не додуматься?
– Это, – говорит приятель, – положим, тоже натяжка, потому что всякая штука твоя от судьбы зависит. Но – идет. Согласен.
– Прекрасно. Сочини что-либо трудное, нелепое, и я это проведу без всякой судьбы. У судьбы, милый мой, много дела и без нас – нечего ее по пустякам затруднять. Гоп!
Мой друг обвел глазами столики и сказал:
– Видишь ты ту молоденькую венгерку, которая сидит с пожилой дамой, очевидно, с матерью?
– Вижу.
– Ну-с… хочу я, значит, чтобы у нее был ребенок… Хм… От кого бы?
Он осмотрел рассеянно все столы, и взгляд его задержался на каком-то господине, одиноко сидевшем в дальнем углу.
– Вот от этого худосочного русского молодца! У него или слишком мало радостей, или очень много печали. Наградим его венгеркой, а?
Я пожал плечами.
– Венгерка так венгерка. Но слушай: как честный человек, за одно только не могу поручиться…
– Именно?
– За пол будущего отпрыска русско-венгерской фамилии. Ты сам, конечно, понимаешь…
– Для судьбы ты слишком многословен. Я предпочитаю видеть работу.
III
Я закурил папиросу, встал и приблизился к одинокому русскому.
– Простите, что, не будучи знаком, обращаюсь к вам с одним вопросом: сколько времени идет письмо до Петербурга? Эти бестолковые итальянцы ничего не знают.
– Письмо? Четыре дня.
– Весьма вам признателен. Вы надолго в эту дыру?
– Нет… Так, недели на две. Не присядете ли?
– Merci. Вы что же, – спросил я, опускаясь на стул, – в одиночестве тут? Без жены?
– Да я и не женат совсем.
– Ну?! Вот-то она обрадуется! Ах… простите… я, кажется, сказал лишнее.
– А что такое? Кто обрадуется? О ком вы это говорите «она обрадуется»?
– Не знаю, – смущенно засмеялся я. – Говорить ли вам… Это будет, пожалуй, разбалтыванье чужого секрета. Хи-хи…
– Нет, уж вы, пожалуйста, скажите. Это будет между нами. Ну, скажите! Ведь я любопытен, как женщина.
– Хи-хи… И сам не знаю, как это я проговорился. Ну, ладно… Если вы даете честное слово, что это между нами… Видите вы ту венгерку, около седой дамы? Красавица, не правда ли?
У венгерки было самое ординарное, миловидное лицо, но мой восторг заразил и бедного форестьера.
– О, да! Очень красивая.
– Ну вот… Так знаете ли, что у этой красавицы, у этой поразительной, изумительно прекрасной девушки вы с языка не сходите?!
Мой собеседник вспыхнул и конфузливо и радостно засмеялся, будто его щекотали.
– Ну, что вы говорите! Да неужели?! Нет, нет! Вы шутите… Это было бы прямо-таки… удивительно!
– Честное слово! Она меня прямо измучила вопросами… Кто такой, да что, да не женат ли? Все о росте вашем сегодня щебетала…
– А… что? – опасливо спросил мой собеседник, вероятно, не раз огорчавшийся, сравнивая свою мизерную, низкорослую фигуру с фигурами своих ближних.
– Да, многое она говорила. И что терпеть она не может высоких мужчин, и что ваша фигура приводит ее в восторг, и что, если бы… Впрочем, нет, я, кажется, слишком разболтался…
– Так она меня заметила? – переспросил мой собеседник, с трудом сохраняя рассеянно-задумчивый вид.
– Она-то? Да она околдована.
Я помолчал и вдруг решил махнуть рукой на всякий здравый смысл:
– Вчера, нашла, что в вашем лице есть много общего с Наполеоном.
– Ну, что вы говорите!
– Ей-богу. В таких людях, говорит, таятся великие, огромные силы. Счастлива, говорит, та родина, которая может назвать такого человека своим сыном. Спрашивала, не поете ли вы? С таким, говорит, голосом, который звучит, как музыка…