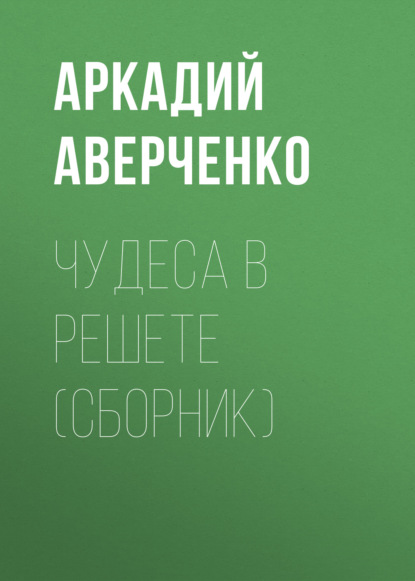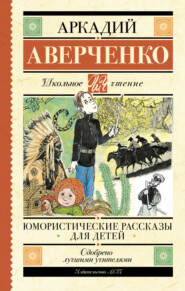По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чудеса в решете (сборник)
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– No, no!
– Cartolina postale!!
– He надо, тебе говорят!!
– Русски! Ошень кароши cartolina… Molto bene.
– Русски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?
– Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.
– Господин, купаться, а? – заискивающе лепечет этот разбойничьего вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих forestieri russo.
Я сначала недоумевал – чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?
Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидался меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, заставил купить эти намозолившие глаза венецианские открытки.
– Ну, черт с тобой, – сердито сказал я. – Грабь меня!
– О, руссо… очень карашо! Крапь.
– Именно – грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?
– Купаться, – подтвердил он, подмигивая.
Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.
У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливыми комарами.
Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхваляет свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо – Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрашиваний Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.
Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами – образец логики и внушительности.
– Cartolina postale! – в десятый раз ревет продавец.
– Милый мой, – оборачивается к нему Мифасов. – Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока – настойчивость твоя останется без всякого результата.
У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.
– Carrrrrtolina postale!!!
Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут…
– Нет, брат. Плохие открыточки.
Умирающий от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватает забракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.
Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:
– Тут пьют пиво.
И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.
В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьяцетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:
– Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.
И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.
Поэтому в Германии выработался свой шаблон.
– Четыре кружки пива, бульон «мит ай», шницель и братвурст мит краут.
К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:
– Битте-дритте.
Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:
– Битте-дритте.
Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не пришлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.
Так он и остался со своим загадочным:
– Битте-дритте.
Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс – благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым – бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.
Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, покрыл ее осторожно газетой.
– Ну, ребятки, – оскалил зубы Крысаков. – Покушаем, ха-ха, покушаем… Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих… Эту рыбку зажарьте да макарон закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.
Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованье – так все было нехорошо сделано.
– А вы что же, милые? – радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу. – Кушайте, угощайтесь.
– Я сыт, – осторожно сказал Мифасов, – и, кроме того, сейчас иду в ресторан.
Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:
– Это что? Рыба или мясо?
– Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.
Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением…
Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.