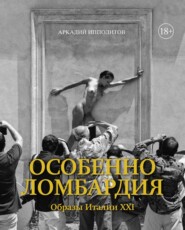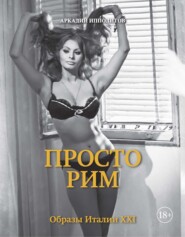По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ожидатели августа
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вода и небо – ведь действительно в Петербурге нет ничего прекрасней, чем они, и нет ни одного другого города на земле, где они бы столь мощно вписывались в ландшафт города. Белые ночи являются пиком петербургской фантасмагории, но серые дождливые дни и снежные ночи, когда вода сливается с небом и город почти пропадает, как тонкая черная полоска, окаймляющая свинцовую реку, – они так же прекрасны. Прекрасны и прогулки в это время, и отвратительная питерская погода делает их только еще более щемящими, безнадежными, меланхоличными и сладостными.
Вода и постоянное медленное течение этой воды, неизменное, но тихое и ничего внешне не меняющее движение – суть Петербурга.
«Вы несомненно знаете балладу Кольриджа, где английскому матросу привиделся скользящий по морю корабль: я вспомнил ее, глядя на призрачный спящий город».
Подобное понимание genius loci – духа места, – что снизошло на Кюстина во время его петербургской коллизии, мало кого посещает. Долгое время прогулки по Петербургу – это все, что оставалось у ленинградцев, у того нового племени, что заселило берега Невы после гибели старой столицы империи. Только прогулки оказывались связью с тем городом, что видел Кюстин из окна Зимнего дворца. Их ареал даже расширился – петербургский историзм и петербургский модерн, что так ужасали Серебряный век и Мир искусства, естественно влились в петербургскую панораму, став также разрушенными памятниками. Как в Колизей, заходили в 1960-1970-е годы в загаженные, некогда роскошные подъезды с разбитыми витражами, облупленными атлантами и разрушенными фонтанами. Их ложная мишура и часто безвкусная роскошь приобрели статус культурного абсолюта, став для интеллигентных и даже не очень интеллигентных ленинградских юношей и девушек таким же источником гордости, каким для флорентийцев являются Давид Микеланжело и фрески Мазаччо.
Так, с течением времени, что покачивает Петербург, прах и дым, хаос и бездна – все стало культурой, все мифологизировалось, все утвердилось в зыбкой почве петербургских болот. Ведь на самом деле именно Кюстин сделал высший комплимент русскому духу.
«Русские – колдуны: под действием их волшебной палочки жизнь превращается в непрерывную фантасмагорию; игра эта утомительная, но разоряются в ней лишь растяпы, ибо там, где все плутуют, никто не остается в проигрыше: одним словом, если употребить поэтическое выражение Шекспира, чьи широкие мазки помогают постичь самую суть природы, русские лживы, как вода».
Русские как вода. Боже, как бы хотелось, чтобы так оно и было на самом деле.
Несколько слов о старой гравюре
В начале двадцатого века было сформировано некое эстетическое противопоставление Петербурга и Москвы. Петербург был провозглашен городом по преимуществу графичным, Москва – живописным. Подчеркивалось, что для Петербурга главные выразительные средства – это контур, линия и ракурс, в то время как для Москвы были характерны объем, цвет, живописная лепка формы. Из этого противопоставления делаются далеко идущие культурологические выводы, очень часто слишком общие, чтобы быть убедительными. Интересно, что антиномия «Петербург – Москва» чуть ли не дословно повторяет классическую пару «Флоренция – Венеция», причем Венеции Северной в данном случае отводится роль, прямо противоположная всякой венецианскости.
Все отвлеченные рассуждения легче всего строить на противопоставлении, однако, даже отбросив эти тривиальности, надо признать, что рассуждения о графичности Петербурга отнюдь не бессмысленны. Конечно же, если мы будем рассуждать о какой-нибудь петербургской школе, то все замечания по поводу ее академичности и приоритета штудий, о линеарности и скупой цветовой гамме будут очень и очень расплывчаты. В первую очередь потому, что никакой петербургской школы не было, а было некоторое количество поселившихся в новой столице художников, затем обучавших в искусственно созданной Академии присланных с разных концов страны молодых людей. Графичность Репина и Сурикова весьма сомнительна. Только с начала двадцатого века в сознании мирискусников складывается понимание того, каким должно быть петербургское искусство, и они сами себя провозглашают его главными выразителями, находя в прошлом оправдание и подтверждение своему пониманию стиля и стильности.
В то же время город существовал, и при всей заимствованности его искусства и странности идей, что руководили его жизнью, атмосфера Петербурга была подлинна и уникальна. Его осени и зимы, снега и дожди, белые ночи и серые воды на протяжении трехсот лет менялись не столь уж кардинально, чтобы не быть узнаваемыми. Безусловно, самым удивительным был столетний скачок от авангардной радикальности петровского жеста, воздвигшего удивительный для Руси барочный город, к неоклассической громаде николаевского Петербурга. Но затем город законсервировался так, что и «сегодня он порой умеет казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной…» Сто лет – короткий срок для истории города, так что можно сказать, что Петербург изначально не менялся, будучи цельным со дня своего рождения.
Возвращаясь к сказанному, утверждение того, что Петербург графичен, не бессмысленно – в том случае, если понимать, что графичность растворена в самой атмосфере города. Серое небо, прорезанное контурами башен и куполов, тягучие однотонные воды, покрытые рябью, стены дворцов, декор которых выглядит нанесенным на плоскость рисунком, сентябрьские и мартовские сумерки, очерчивающие образ города с помощью различных градаций темного, – все заставляет воспринимать и описывать город в терминах, подходящих для графики больше, чем для живописи. Атмосфера города физически приводит к графичности сознания. Выразительность здесь ценится больше образности, сдержанности и стильности отдается предпочтение перед щедрой переизбыточностью, а придуманность, в отличие от прочувствованности, кажется более уместной. Импрессионистического Петербурга как-то не существует, и лишь только упоительное описание вечернего Невского, созданное Гоголем, может считаться таковым. Но Гоголь на то и Гоголь, чтобы быть уникальным. Графичность также понятие весьма широкое. Графикой, например, считается и рисунок, но графичность Петербурга как раз с рисунком (как его понимали итальянцы) имеет мало общего. Рисунок – это замысел, набросок идеи, иногда, может быть, более существенный, чем ее окончательное исполнение. Рисунок – это движение, процесс, становление, и потому, по преимуществу, рисунок динамичен. Петербург же изначально закончен, через сто лет после своего рождения, после того как в пушкинской поэме его образ был осознан и уже определен на веки вечные, он предстает в образе Медного всадника, осязаемой тяжестью образа доказывая свою идеологическую застылость, не подразумевающую никакого развития. Нет, графичность Петербурга противоречит идее рисунка, утверждающего живость прежде всего.
Косые линии дождя, расчерчивающие однотонную серость неба, сероватые переливы воздуха на ноябрьской монолитности водяной глади, поверхность льда, усеянная штрихами человеческих фигур между Зимним и Петропавловкой, силуэт голых ветвей на фоне блеклых стен и чугунных оград напоминают о специфическом роде искусства графики – о старой резцовой гравюре. Порывы ветра, подталкивающие вас в спину на невской набережной или мешающие перейти необъятную плоскость Дворцовой площади, сродни усилиям мускулов резчика, выводящего линию на листе металла. Ветер становится той интенцией, что приводит к возникновению резких и острых ракурсов города, а он, сконцентрировавшись, заостряется и утоньшается, превратив свою первоначально хаотичную мощь в линеарную оформленность. Хруст льдинок под ногами, в марте и декабре покрывающих оледенелые тротуары, рождает ощущение ломкости и хрупкости, что сродни сочетанию металла и бумаги, из которых рождается гравюра. Косые линии дождей, висящие в воздухе и разбиваемые ветром, дождей мелких и рассыпчатых, напоминают штриховку, и именно из этой штриховки рождается петербургский фон, как из параллельных и дробных ударов резца рождается удивительная тональность старой гравюры, полная монотонной переливчатости. Сам воздух, своей резкостью раздражающий мозг и легкие, именно вырезает образ города в сознании. И, конечно же, потоки серого цвета и света, серое мерцающее солнце, обесцвечивающее остальные цвета, равняющие их в единую гамму бесконечных градаций так, что кажется: и желтый, и белый, и красный, и голубой – все передано лишь одним-единственным цветом, имеющим бесконечное количество оттенков, разнообразных в своем едином однообразии.
Что может рождаться в душах тех, кто оказывается в этом странном пространстве, где острота и резкость подчеркнуты серой монотонностью в обесцвеченном мире металла и бумаги? Вне всяких сомнений это будут видения, и зримость их будет обманчива – как серый свет пасмурного дня, видения души, с трудом пробуждающейся от сладости кошмаров, мучающих ее и днем и ночью. Нет сомнений, что «Меланхолия» Альбрехта Дюрера – истинно петербургское произведение, что свет падающей кометы, льющийся потоком штрихов, – подлинно невское светило, и желание не жить и не чувствовать, что читается в сонной грусти крылатой женщины, – это типичное состояние для Петербурга большей части года. Сама крылатая женщина сходна со скульптурой Невы у Ростральных колонн, и шар у ног ее как будто скатился со спуска Стрелки Васильевского острова. Тяжелое сонное раздумье и отказ от активной деятельности, что выражен в разбросанных у ног Меланхолии инструментах, составляют суть петербургского мышления и состояния.
Летучая мышь с надписью Melencolia I в своих костистых лапках может стать символом нашего города, и, может быть, она будет символизировать все лучшее, что в нем есть.
Великая Меланхолия олицетворяет саму душу города. Она является первопричиной всех остальных видений, что рождает его разум и его чувства. Сладострастие с низким лбом чухонской солдатки, дьявол, засунувший воздушный мех в ухо философу, бешено несущиеся всадники Апокалипсиса, корзины, полные младенцев, обреченных стать основой приворотного зелья, скачущие скелеты и пустынные пейзажи с руинами мелькают, теснятся и толкутся в смутной лени ее непросыпающегося мозга. Мечтатель Достоевского – один из праправнуков дюреровской Меланхолии.
В белые ночи, когда на Петропавловской крепости пробили первую зарю и вдалеке загорелась адмиралтейская игла, итальянский гравер Джорджо Гизи выронил из рук ветхого Данте и создал гравюру, так и не имеющую названия. Одни зовут ее «Сон Рафаэля», другие – «Меланхолия Микеланджело», третьи еще как-нибудь: никто ничего понять не может, что и немудрено. Ведь этот сон приснился Рафаэлю или Микеланджело в то время, как, страдая петербургскими бессонницами, в петербургские белые ночи они перечитывали «Божественную комедию» и раздумывали над «Медным всадником». Кентавры, пантеры и падающие звезды смешались в одурманивающую какофонию, и, вообразив себя Евгением, загадочный персонаж застыл у берега странной реки – то ли Стикса, то ли Невы, – челн разбит, и попасть на другой берег невозможно. А на другом берегу летают амурчики, цветут цветы и пальмы. Там счастье и нежность, там – Параша, мечта Евгения, но попасть туда невозможно, а солнце уж восходит и скоро прогонит все безумные видения дантовского Петербурга.
Белые ночи – это особая графичность. Регулярность ноябрьско-мартовского штриха исчезает. Тонкие градации серого видоизменяются, и глубокие извилистые черные линии врываются в сознание, бередя его истеричными всхлипами. В белые ночи привычные дома и улицы с их плоскими фасадами и прямыми перспективами становятся неузнаваемыми, и город населяется экстравагантными призраками, элегантными нищими, сошедшими с офортов Жака Белланжа. Белые ночи – это царство офорта. Новая Голландия и громады старых складов у Тучкова моста превращаются в тюремные кошмары Пиранези, и все дружной толпой идут задавать вопросы Смерти, как это изображено на офорте Тьеполо. «Капричос» Гойи также навеян его посещением Петербурга, и продолжением размышлений дюреровской Меланхолии является гравюра «Сон разума рождает чудовищ». Наваждение – это главная тема графики от Дюрера до наших дней. Рассчитанная одержимость резцовой гравюры, за точностью и вычисленностью штриха прячущей свору безумных грез, предрекающих конец света, и сумасшествие офорта – всегда непредсказуемого, всегда индивидуального, чувствуются во всех лучших произведениях этого искусства. Атмосфера Петербурга создана резцом и кислотой и плотно населена видениями, сошедшими со старинных листов бумаги.
Рим и Петербург: о несходстве сходного
О схожести Рима и Петербурга писали очень много, выразительно и правильно. Трудно придумать, однако, менее схожие города. Все в них разное: климат, география, население, история, язык, экономика. Но, заданное самим именем – город Святого Петра, – сходство Петербурга и Рима все время заставляет к нему возвращаться. Все-таки Четвертый Рим, центр империи. Даже и то, что имя «Санкт-Петербург» мало кем прочитывается как намек на божественного покровителя, держащего в руках ключи от рая, но подавляющим большинством воспринимается как славословие имени его основателя, также роднит эти два города. Ведь название Roma происходит от царя Ромула, претендующего на историчность с меньшим правом (но с не меньшей настойчивостью), чем наш Петр I. Есть у нас и собор с колоннадой, воспроизводящей размах Бернини, и триумфальные арки, и Медный всадник, ничем – кроме древности – не уступающий Марку Аврелию. Так что схожего много, но при этом не похоже ни капли, и «горькое это несходство душило, как воздух сиротства».
И душит, и душит. Несходство Петербурга с Римом остро подмечено в неоконченном романе Георгия Иванова «Третий Рим», где запутанная детективная история разворачивается на фоне петроградской жизни накануне революции. При том, что о каких-либо точках соприкосновения с Римом в романе нет ни строчки, его название говорит само за себя, и автор держит в голове параллель двух имперских столиц. Держит, сопоставляя образ Рима как воплощения власти и упадка с повестью Гоголя «Рим», где также рассказывается о юности героя. В свою очередь, Гоголь, описывая свой Рим и сравнивая его подлинность с омертвелой суетой Парижа, постоянно держал в голове сравнение с Петербургом, решая его отнюдь не в пользу русской столицы. По-видимому, русской душе никуда от этого сравнения не деться.
Нет, например, менее несхожих мест, чем Стрелка Васильевского острова и римская пьяцца Навона. Римская площадь возникла на месте древнего цирка I века н. э. и сохраняет его очертания уже вторую тысячу лет. Ее вытянутый овал окружен плотно теснящимися домами, церквами и дворцами, так что она, несмотря на свои размеры, кажется узкой, какой и полагается быть площади очень старого европейского города. Три фонтана, изобилующие мраморными фигурами людей и животных, усиливают общее ощущение скученности и переполненности, свойственное Риму, особенно Риму современному. Толпа на площади бурлит день и ночь, почти как на арене античного цирка или как во время праздника Бефаны 6 января, когда Навона на один день превращается в рынок. Хотя эта площадь ведет свое происхождение со времен императора Домициана, никаких мыслей об императорском Риме она не навевает. Несмотря на свою древность, она слишком жива для отвлеченных размышлений. Причем, судя по старым гравюрам, была жива уже и во времена барокко, окончательно эту площадь сформировавшего, – ни одному художнику не приходило в голову изобразить ее опустевшей: кажется, что она извечно была набита жизнью до отказа.
Петербургская Стрелка во всем отлична. По сравнению с пьяцца Навона она в свои двести лет не то чтобы несовершеннолетняя, а только-только выходит из младенческого возраста. Это не натяжка: две сотни лет назад Стрелка вообще не существовала; она результат искусственной насыпи, специально созданной для проекта, задуманного Тома де Томоном (а точнее, Александром I). Благодаря этому площадь обрела идеальную геометрическую форму, подчеркнутую строгой симметрией расположенной на ней архитектуры. Два простых и одинаковых здания обрамляют монотонность дорического храма Биржи, вознесенного на высокий постамент; повторяемость аукается в двух одинаковых колоннах, очень специально расставленных, – а затем, сбегая вниз, завершается двумя круглыми шарами, застывшими у воды. Не площадь, а чистая идея.
Всякая идея требует простора, а идея русская в особенности. Стрелка Васильевского острова широка не столько за счет площади перед ней, сколько за счет водного пространства, расстилающегося вокруг, и окружающей здания огромной пустоты неба. Пустота эта столь величественна, что делает архитектуру плоской, превращая ее в слабо намеченную линию, лишь подчеркивающую горизонт. Издалека весь ансамбль воспринимается как довольно приземистый, несмотря на внушительные размеры. Силуэта не существует, так как очертания построек не отличаются тонкостью, но обрисованы скупо, без лишних подробностей. При взгляде из окон Зимнего дворца Стрелка сильно смахивает на декоративный письменный прибор с чернильницей и двумя подсвечниками по бокам – ростральными колоннами.
Зато идей простор навевает множество. Об имперском размахе, о величии власти, об античности – ну и, само собой, об избранности России. В любом путеводителе можно прочесть фразу о том, что ансамбль Биржи прославляет морское могущество России и что ростральные колонны – символ морских побед. Каких именно побед, нигде не уточняется, так как символ означает нечто умозрительное, всеобщее – в отличие от аллегории, в обобщенной форме представляющей нечто конкретное. Чесменская колонна в Царском Селе отмечает реальную победу над турками, поэтому она – аллегорична, а колонны Стрелки – символы. Не беда, что такое понятие, как морское могущество России, несколько невнятно, как несколько невнятно в Петербурге то, что этот город – морской порт. Мы побеждали шведов при Гангуте и турок при Чесме, но в русскую мифологию вошел наш гордый «Варяг», который врагу, конечно, не сдается, но весьма печальным образом. Помимо «Варяга» есть еще три мифологических корабля русского сознания: крейсеры «Очаков» и «Аврора» и броненосец «Потемкин», но какое отношение к морскому могуществу они имеют, судите сами. Ростральные колонны при своем появлении на свет не ведали ни о русско-японской войне, ни о революции, но символ на то и символ, чтобы не рассуждать и даже не утверждать, а просто символизировать.
Путеводитель – пошляк. Более сложные статьи и книги рассуждают о масонских знаках, содержащихся в плане и архитектуре Тома де Томона, о ее связи с мистицизмом императора Александра I, об обращении к простору как примете русского мессианства, связанной с мечтами о крестовых походах нового рыцарства – русского дворянства против Антихриста Наполеона, завоевавшего Европу. Действительно, созерцание Биржи, вознесенной на священный цоколь в самом центре города, с высокими торжественными ступенями, подводящими к ней, как к храму, и двумя установленными по бокам жертвенниками, рождает какие угодно ассоциации – кроме разве тех, что прямо должны быть с ней связаны: экономических. Величественность этого места подавляла, на старых картинах оно выглядит всегда торжественно-пустынным. Остроумова-Лебедева на своих гравюрах выбирает для Стрелки такой ракурс, что та вообще смотрится как Акрополь, не говоря уж о Шилинговском, в своей послереволюционной петроградской серии превращающем Акрополь в Некрополь. В ленинградские времена, после преобразования Биржи в музей Военно-морского флота (вот он, выполненный дословно завет императора, славившего с помощью Тома де Томона русскую морскую мощь), на Стрелке царила пустота. Да и сейчас, когда на ступенях Биржи проходят рок-концерты, а на Петропавловке – салюты, толпа перед постаментом производит впечатление не более чем разворошенного муравейника.
Какое же отношение это все имеет к Риму и пьяцце Навона? Стрелка еще одно подтверждение тому, что, говоря о Петербурге, все время размышляешь о Риме. Что самое примечательное на римской площади? Огромный и знаменитый фонтан Четырех Рек Бернини – Fontana dei Fiumi, роскошный, барочный, с раскиданными по нему оживленно жестикулирующими голыми бородатыми атлетами, с каменными конями, змеями, дельфинами и крокодилом, с египетским обелиском, торчащим из нагромождения скал, поросших каменными же пальмами и кактусами. Четыре атлета – четыре мировые реки, они же означают и четыре континента: Дунай для Европы, Ганг для Азии, Нил для Африки и Рио-де-ла-Плата для Америки. На Стрелке же примечательны ростральные колонны, у подножия которых в задумчивой неподвижности застыли четыре великие русские реки, примерно соответствующие четырем сторонам света: Нева для севера, Волхов для запада, Днепр для юга и Волга для востока. Два мощных старика и две не менее мощные дамы, все похожие друг на друга, все с веслами, главным рабочим инструментом речных божеств, и с небольшим набором других атрибутов, не столь многословным, как берниниевский, но зато очень внушительным. Они вообще более серьезны, чем непринужденно барахтающиеся в потоках воды реки Бернини, и эту серьезность, конечно, можно объяснить стилистическими различиями барокко и неоклассицизма – но не хочется, так как это будет отговорка, не более того. Они непохожи, и это столь же нарочито подчеркнуто, как отсутствие упоминаний о Риме в романе Иванова «Третий Рим».
Как и фонтан Бернини, фигуры у ростральных колонн овеяны таинственной скандальностью. Про Бернини рассказывают, что жирный заказ на строительство самого внушительного в то время римского фонтана он получал сложнейшим способом. Папа Иннокентий X предпочитал другого архитектора, Франческо Борромини, выстроившего на пьяцце Навона церковь Санта-Аньезе. Понимая, что действовать надо умно и тонко, Бернини использовал сводную сестру папы Донну Олимпию, имевшую огромное влияние, – ее считали чуть ли не папской соправительницей. Она была жирная и жадная, римский народ ее ненавидел, прозвав Пимпой, или Пимпаччей, что на жаргоне значит нечто вроде «откачка» или «отсос». Бернини презентовал ей внушительных размеров серебряный макет фонтана. Дело выгорело, Бернини получил заказ – и размахнулся так, что папа был вынужден ввести дополнительный налог на хлеб, доходы от которого предназначались специально на строительство фонтана. Римский народ негодовал: «Мы не хотим ни обелисков, ни фонтанов. Мы хотим хлеба, хлеба, хлеба». Бернини, не обращая ни на что внимания, продолжал строить, заодно контролируя подряды на различные поставки. Так он восторжествовал над Борромини; по легенде, с удовольствием рассказываемой римлянами об одной странной детали фонтана Четырех Рек, лицо Нила прикрыто платком потому, что вид церкви Санта-Аньезе, к которому обращена его голова, был Бернини категорически невыносим. Этот же платок объясняют и как намек на то, что в XVII веке истоки Нила были загадкой, но Бернини вполне мог держать в голове оба мотива; кто их, художников, разберет.
С автором Стрелки разобраться тоже трудно. Жан Франсуа Тома, сын мелкого парижского буржуа, родился, казалось, неудачником. Он, правда, поступил в Королевскую академию, но получить желанную для всех ее учеников римскую премию ему никак не удавалось. В 1785 году он отправляется в Рим на свой страх и риск, причем по прибытии все время скандалит с французской колонией. Как архитектора его никто не воспринимает, поэтому он занимается созданием рисунков с воображаемыми видами в римском духе. Ему удается свести знакомство с графом д’Артуа, ни много ни мало братом короля, будущим королем Карлом X; знатное знакомство никаких выгод ему не принесло – граф вскоре оказался в изгнании. Во Франции с карьерой ничего не получается, и Тома решает стать роялистом, прибавив к своей фамилии аристократический довесок де Томон. Под этим именем он и становится известен в Вене, где по возвращении из Петербурга проживает граф д’Артуа. Его покровительству Тома обязан своей службой у графа Эстергази; тот же граф д’Артуа представляет его русскому посланнику князю Голицыну. Куда же податься бедному французу, как не в Россию? Чтобы обмануть иммиграционные службы, весьма недоверчиво относившиеся ко всем французам, Тома де Томон изобретает себе швейцарское происхождение и весной 1799 года оказывается в Москве, в семействе Голицыных.
Выбор, сделанный в Вене, был правилен. Александр Николаевич Голицын был уволен императором Павлом со службы и выслан из Петербурга в Москву. Сразу после своего воцарения Александр I призвал его обратно, и вскоре Голицын стал одним из влиятельнейших лиц России. Кроме того, что в 1805 году он был назначен обер-прокурором Синода, он возглавлял влиятельнейшее Российское библейское общество – главный оплот мистицизма и кузницу новой российской идеи. В 1800 году, одновременно с возвращением опального князя, в Петербург устремляется и Тома де Томон. Тут и начинается его блистательная карьера. Уже в 1802-м он указом кабинета его императорского величества зачислен на государственную службу: ему поручается перестройка Большого театра, с которой Тома провозился до 1811 года, пока театр не сгорел. Он также преподает в Академии художеств – и, хотя ничего, кроме этой затянувшейся стройки да проекта театра в Одессе, он в России создать не успевает, уже в 1804-м получает два огромных государственных заказа: строит амбары Сального Буяна на Матисовом острове и (это самое главное) возглавляет строительство огромного комплекса новой Биржи. Как этому французу с сомнительными именем и происхождением, не создавшему в Европе ничего значительного, удалось обскакать всех петербургских архитекторов – в том числе и вполне жизнедеятельного в то время Кваренги, чье старое здание Биржи Тома де Томон снес прямо у того на глазах? Талант талантом, но известен он был только своими акварелями и рисунками – очень стильными, имевшими большой успех в петербургских салонах. Не так уж много для репутации архитектора. Петербургские салоны – вот ключ к разгадке успеха Тома де Томона. Связанный с семейством Голицыных, он, кроме того, был рекомендован графом д’Артуа Жозефу де Местру, ставшему в 1802 году сардинским посланником при российском императорском дворе. Влияние этого обаятельного интеллектуала на петербургское общество обсуждать не приходится. Лучший друг сестры императорского секретаря Александра Стурдзы и жены петербургского губернатора Софьи Свечиной, де Местр вполне мог обеспечить своим мнением и своими связями карьеру только что появившегося в Петербурге архитектора. Тома де Томон – роялист, католик, эмигрант-аристократ, друг последнего оставшегося в живых законного претендента на французский престол – имел все преимущества перед петербургской архитектурной братией.
На Васильевском острове Тома де Томон размахнулся широко. Берег был не просто выровнен, но искусственно увеличен насыпями более чем на сто метров, укреплен и облицован камнем. Устроена колоссальная площадь (по размерам чуть ли не превосходящая Дворцовую), простиравшаяся от Невы до здания Двенадцати коллегий, в центре которой возвышалось здание Биржи. Потом там без труда разместилось внушительное здание клиники Отта, испортив геометрическую правильность и имперскую пустоту площади. Здания по бокам Биржи были перестроены, им был придан одинаковый вид, да еще и возведены две 32-метровые колонны, сплошь усеянные скульптурой. С самого начала строительства, продолжавшегося двенадцать лет, обсуждались комиссии на поставки строительных материалов. Подряды, до чего же сладкое слово! Скандалов с ними было предостаточно – судя хотя бы по тому, что скульптуры у ростральных колонн замышлялись как чугунные, а на деле «за нехваткой средств» были выполнены из пудожского камня и к тому же по моделям никому не известных французов Ж. Камберлена и Ж. Тибо, а не (как считается, слишком много запросивших) признанных профессоров Академии.
Грандиозный план Тома де Томона опять же возвращает к пьяцце Навона. Вытянутый овал цирка Домициана часто служил местом проведения специальных представлений, имитирующих морские сражения, и поэтому традиционно связывался с памятью о морском могуществе Римской империи. То, что на пьяцце Навона воздвигли фонтаны «Нептун», «Четыре реки» и еще один, также с морским божеством, получивший название «Фонтан Мавра», – не случайность. Многочисленные реконструкции античного цирка, прекрасно известные Тома де Томону, всегда украшались изображениями ростральных колонн. Выбор Бернини четырех рек, представляющих мир, в то же время соответствовал условным границам величия Римской империи, помноженного на величие католицизма: благодаря испанцам и португальцам Южная Америка стала не менее преданной папе, чем Пиренейский полуостров. Жозефу де Местру все эти подробности были не менее близки, чем судьба России, над которой он столь много размышлял по заказу графа Разумовского.
Россия же, условно означенная Невой, Волховом, Днепром и Волгой, – это плацдарм империи, с которой единственной связаны все упования на победу над гидрой безбожия, пожирающего Европу. Четыре спокойных русских реки перенимают эстафету у судорожно жестикулирующих римских предшественников. Римляне сдавлены историей, как сдавлена зданиями пьяцца Навона. Особенность же нашей цивилизации, как определил ее П. Я. Чаадаев, «состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более от нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось», устремлены к необозримой широте пространства, так как «мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его». Замечательно, что мысли о русской избранности были инспирированы поборниками католического возрождения.
Стрелка смотрит строго на восток. Все рассуждения о том, что она планировалась как морской порт, условны – воды Невы около нее мелки, и подходить к Стрелке могли только маленькие лодки. Столь же условно и назначение ростральных колонн, воздвигнутых как маяки, светящие отнюдь не матросам, а окнам Зимнего дворца. Весь грандиозный «морской» ансамбль ориентирован не вовне, к морю, но вовнутрь России, к ее родным необозримым просторам. Полгода водная гладь, расстилающаяся вокруг нее, была белой ледяной степью, вообще никак не напоминающей о судоходстве. Естественным образом ширь, открывающаяся со Стрелки взгляду, напоминает о пространствах России, об удали и разгуле, издавна связывающимися с Волгой как символом русского размаха. Символическое изображение Волги просто обязано было усесться под ростральной колонной, так что не имеет значения, замышлялась ли фигура с рогом изобилия, сейчас определяемая как «Волга», персонификацией этой реки изначально или это позднее название, неизвестно откуда взявшееся. Ориентирована же Стрелка на священное место, Иордань, прорубь во льду напротив Зимнего, вокруг которой с 1732 по 1914 год в праздник Крещения Господня свершалось торжественное освящение невских вод в присутствии императора.
Сегодня около Стрелки возник еще один мотив, роднящий Петербург с Римом. На Неве, чуть ли не прямо на месте священной Иордани, где раньше стояли гвардия, двор и духовенство, прорвался вверх грандиозный, претендующий на звание самого большого в мире фонтан, сконструированный в честь саммита «большой восьмерки». Струи устремляются ввысь, переливаются всеми цветами радуги, танцуют свой танец в такт ревущей музыке – такие прельстительные, такие завораживающие. И дивится народ этому великолепию, этой красоте неземной, похожей на прорыв адской канализации.
Три Елизаветы
Рассуждение Стерна о власти имени над судьбой человека всегда относилось к моим любимым литературным фрагментам. Действительно, имена определяют все, хотя ничего не гарантируют, и это знает каждый, кто когда-либо занимался выбором имени своего ребенка, или племянника, или хотя бы ребенка знакомых. Или, по крайней мере, имени кошки или собаки. Важнейший ритуал, отсылающий к книге Бытия, когда «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Трудный, без сомненья, выдался для Адама день.
Любое имя, конечно, индивидуально, пройдя сквозь толщу времени, оно приобретает весомость, втягивая в себя тысячи и тысячи судеб людей, реальных и вымышленных. Смысл имени разрастается до размеров обобщения, значение, изначально заложенное практически в каждое имя, обретает плотность и явность символа, становясь все более и более определенным и законченным. Имя очерчивает границы судьбы, и перемена имени всегда означает желание разрушить эти границы, будь то выбор псевдонима, подделка документов, переход в иную веру или смена подданства и языковой среды.
Помню, как когда-то очень давно участвовал в одном из обсуждений имени дочери кого-то из знакомых, которая вот-вот должна была появиться на свет. Среди множества предлагавшихся имен мелькнуло имя Елизавета, очень красивое, давно мне нравящееся, но, как было сказано, опасное и отклоненное на том основании, что, согласно старым поверьям, все Лизы обаятельны и легки, но всегда убегают с гусаром в весьма раннем возрасте, доставляя родителям массу хлопот. Все это мне запомнилось, так как было похоже на правду, соответствуя звуку имени Елизавета, чем-то напоминающему о зелени первой травы, пробившейся сквозь прошлогодние листья, о расцветших на черных ветках весенних цветах слив и вишен, о горьковатом запахе лаванды и о прочих поэтических вещах, но с острым присвистом «з» в середине, звучащим как мгновенный порез хорошо отточенным ножом, столь же глубокий, сколь и незаметный, опасный, кровавый и практически безболезненный. Или удар по лошадям, уносящим возок с похищенной Лизой. Это была моя первая осознанная встреча с именем Елизавета, очень мне запомнившаяся, хотя так не звали ни одну близкую мне женщину. В дальнейшем я все время пытался найти какой-нибудь словарь, где бы были рассказаны истории об этом имени, толковник и грамматику, наподобие тех старинных словников цветов, упоминаемых Буниным, где объясняется, что «Вересклед – твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница – сладостные воспоминания. Печальный гераний – меланхолия. Полынь – вечная горесть», но не нашел, хотя и узнал, что еврейское имя Елизавета означает «обещанная Богу» или «Бог есть совершенство». Наверное, все подобные книжки сожгли вместе с усадьбами, куда гусары увозили своих Елизавет и где потом хранились «Грамматики любви». Впрочем, в любой русской памяти есть образ карамзинской Бедной Лизы, возникающий у белых монастырских стен, когда «внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом». Великолепная картина, очень знакомая, хотя она столь же идеальна, как сталинская мечта, воплотившаяся в роскошной жути ВДНХ и Речного вокзала. Москва, как пишет Карамзин, «сия ужасная громада домов и церквей», так и осталась алчной, давно поглотившей и упоминаемые в «Бедной Лизе» Симонов и Данилов монастыри, и село Коломенское с «высоким дворцом своим». Пожалуй, Лиза – первая русская душа, ставшая жертвой большого мира: замечательное противопоставление громады города и хрупкой индивидуальности, затем развитое в «Медном всаднике».
Осевшее на дно сознания воспоминание об имени Елизавета всколыхнулось с особенной силой, когда я прочитал впервые опубликованные дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, исполненные упоительного и ошеломляющего трепета подлинности, превращающей чувство в шедевр редкий и совершенный, подобный величайшему произведению искусства. Эти дневники, быть может, лучшее, что было написано когда-либо в России женщиной о любви, и одно из лучших произведений о любви вообще в мировой литературе. Срывающийся внутренний ритм этой прозы сравним с величайшими страницами лирики Достоевского, с его «Белыми ночами» и «Кроткой». Не беда, что они были написаны немкой по-французски, в конце концов и Татьяна писала Онегину на французском языке.
«Взгляды его уже не казались мне столь нежными, я их избегала, а когда я стала танцевать, он исчез, этот бесконечный экосез длился еще так долго, что я решила, что он уехал, и, немного отдохнув, объявила, что намереваюсь уехать, как тут увидела его входящим в зал с видом на редкость равнодушным. Вскоре после того выскользнула из зала, однако мой последний взгляд все же невольно упал на него. Я возвратилась к себе в странном состоянии. Я была рада, что мое предчувствие меня не обмануло, счастлива, что видела его, но в то же время недовольна, как мы бываем недовольны избалованным ребенком, которому в глубине души прощаем, не в силах противиться его обаянию».
«Вторник видела Vosdu на набережной с другом, остаток Страстной недели плохо, Пасхальной ночью, воскресенье 5 апреля, по дороге в церковь очаровательный взгляд, говорящий как никогда, глаза сияли, в них отражалось беспокойство остаться незамеченным, удовольствие, они первые как будто говорили: Ах, я вижу вас – а вы разве меня не видите? Наконец, взгляд, внесший бурю, смятение в мое сердце. Этот язык глаз был столь ясен, что он не мог не думать того, о чем глаза говорили. Целование руки испорчено, огорчена, в передней безобразная сцена, его видела только мельком. Идя к вечерне смотрела, но плохо видела, он был в тени, а на обратном пути я на него взглянула».
«Я сделала еще один круг, мы увидели его издали. Вернувшись ко мне, мы ждали, что он проедет, но я, потеряв терпение, вошла, и Принчипесса услышала его, сидя за клавесином. Звон шпор, любезный Vosdu пешком пересек двор, Лиза, Лиза, скажи мне „я тебя люблю“, angebrannt несказанно, но сурово себя обуздала. Вторник 18, ничего».
Постоянное упоминание точных примет Петербурга – Летнего сада, Таврического сада, Английской набережной, Павловска, Петергофа – превращает дневник в завораживающее петербургское кружение, возможное только в этих местах и только в этом городе. Елизавета Алексеевна как будто определяет genius loci, так что краткое упоминание: «Среда 11, панихида, обманутая надежда, и я уже готова была к плохой прогулке, как совершенно неожиданно в карете на Фонтанке, к несчастью, стекло с моей стороны было поднято, прелестный Vosdu посмотрел так внимательно, мы встретились, потом его пустая карета…» – вызывает в памяти лучший петербургский вид: белесые летние сумерки, решетка Летнего сада с головами Медуз, балюстрада Красного замка с затихшими Флорой и Геркулесом Фарнезе, пустынная набережная, Нева вдалеке, звонкое от царящей тишины цоканье копыт по мостовой. Ничего подобного не могло быть, мост к Летнему саду через Фонтанку еще не был построен, и вообще была ранняя весна, а не лето белых ночей, и эта садовая решетка с Медузами, и Пантелеймоновский мост, и Ваза-Плакальщица из эльфдаленского розового порфира около пруда Летнего сада – все это появилось гораздо позже, много лет спустя после встречи Елизаветы Алексеевны с ее обожаемым Vosdu. Но кажется, что все было добавлено специально, чтобы как можно лучше и точнее передать настроение радостной грусти неожиданной встречи, произошедшей 11 марта по старому стилю 1803 года. Елизавета Алексеевна жила на грани двух веков и двух эпох, и чувство, ее захлестнувшее, оставляло далеко позади прошедшее столетие и ancienne regime, принадлежа уже совершенно новому времени, во многом им, этим чувством, и определенное. Пусть даже дневники и не были никому известны. Интересно, что портрет Алексея Охотникова, того самого «прелестного Vosdu», ни капли не разочаровывает, как это обычно бывает со знаменитыми красавицами и красавцами прошлого.
Примерно в то же время, когда я открыл для себя дневники Елизаветы Алексеевны, я прочел эссе Маргерит Юрсенар под названием «Игра зеркальных отражений и блуждающие огоньки» с эпиграфом из Башляра «Тебе кажется, будто ты видишь сон, но это воспоминание». В эссе Юрсенар рассказывает о ненаписанной ею книге «Три Елизаветы», которая должна была рассказывать о святой Елизавете Венгерской, дочери короля Андрея II, ставшей Тюрингской принцессой, об императрице Сисси, жертве анорексии и итальянского террориста, и о Елизавете из рода Баториев, жутковатой Салтычихе эпохи маньеризма, в XVI веке прославившейся своим садизмом, так что аристократические родственники по указу императора были вынуждены заключить ее в каменную башню замка Пьештяни в Словакии, где она томилась до конца жизни. Снова появившись, имя Елизавета обрело дополнительную значимость, оказавшись важным не только для меня, и сразу всплыли образы трех русских Елизавет, с замечательной ясностью очерчивающих русскую женственность, хотя две из них по рождению русскими и не были.
«Она входила в незнакомые дома, и никто не выгонял ее, напротив, всякто приласкает и грошик даст. Дадут ей грошик, она возьмет и тотчас снесет и опустит в которую-нибудь кружку, церковную аль острожную. Дадут ей на базаре бублик или калачик, непременно пойдет и первому встречному ребеночку отдаст бублик или калачик, а то так остановит какую-нибудь нашу самую богатую барыню и той отдаст; и барыни принимали даже с радостию. Сама же питалась не иначе как черным хлебом с водой. Зайдет она, бывало, в богатую лавку, садится, тут дорогой товар лежит, тут и деньги, хозяева никогда ее не остерегаются, знают, что хоть тысячи выложи при ней денег и забудь, она из них не возьмет ни копейки. В церковь же редко заходила, спала же или по церковным папертям, или перелезши через чей-нибудь плетень (у нас еще много плетней вместо заборов даже сегодня) в чьем-нибудь огороде».
Лизавета Смердящая – русская персонификация Елизаветы Венгерской, прославившейся своей благотворительностью и тем, что однажды, во время голода, когда она выносила из дворца хлеб, чтобы раздать страждущим, ее остановили по приказу ее мужа и обыскали, но хлеба в ее переднике чудесным образом превратились в розы, и ангелы в столпе света кружили над ее головой. Очень давно я встретился со святой Елизаветой на картине венецианца XVIII века Джованни Батиста Питтони из Будапештского музея, представившего ее грациозной фарфоровой фигуркой, придерживающей двумя пальчиками полы своей накидки, набитой розами, сыплющимися через край, стражники жадно заглядывают ей под мантию, и ангелы, хлопая крыльями, сыплют сверху на нее еще розы, и вся сцена из жизни средневековой покровительницы булочников напоминает придворный балет, Елизавета и полуголые ангелы обольстительны и кокетливы, розы благоуханны до невыносимости. В России же превращена она в девку роста «двух аршин с малым», с лицом здоровым, широким, румяным, но вполне идиотским; «взгляд же глаз неподвижный и неприятный, хотя и смирный».
В честь святой Елизаветы Венгерской, известной также и как Елизавета Тюрингская, была названа Елизавета Александра Луиза Алиса, принцесса Гессен-Дармштадская, в России ставшая великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой, супругой великого князя Сергея Александровича, и в России же принявшая мученическую смерть в Алапаевской шахте. Изящные очертания ее фигуры и ее профиля на старых фотографиях неуловимо напоминают грациозную Елизавету Питтони, а жизнеописание Елизаветы Федоровны, тоже пережившей рубеж двух столетий, гораздо выразительнее средневековых хроник, повествующих о жизни ее тезки в XIII веке. Елизавета Федоровна, собирающая на окровавленной мостовой около кремлевских Никольских ворот останки своего мужа, разорванного бомбой террориста Каляева, посещающая убийцу в тюрьме, просящая императора о его помиловании, осеняющая себя крестным знамением перед смертью и шепчущая про себя «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», – столь ярких сцен не много наберется в самых красочных житиях раннехристианских мучениц. Сильнее всего потрясает последний ее поступок в жизни: на теле князя Иоанна, упавшего вместе с Елизаветой Федоровной на выступ шахты на глубине 15 метров, так что кости их были переломаны, но они жили еще достаточно долго, нашли перевязь, сделанную княгиней из ее апостольника.
Любовь, безответность и мученичество; императрица, юродивая и святая; три ипостаси женственности. Три судьбы, совершенно индивидуальные, но при этом схожие с фрагментами, из которых складывается единый образ величественного целого, подобно тому как из кусков разбитого мрамора, беспорядочно разбросанных временем, складывается образ прекрасного храма, некогда здесь стоявшего. Когда я читаю все умнейшие рассуждения о русской соборности, подобные рассуждениям Гройса, столь верные, столь выразительные, я все время вспоминаю трех русских Елизавет, отрицавших соборность одним своим существованием, так как их любовь, безответность и мученичество были помножены на одиночество, несовместимое ни с какой соборностью. Быть может, эта пресловутая соборность и не столь уж определяет русское сознание, определяя только историю, что не совсем одно и то же. Пересекаются они часто, но никогда полностью не сливаются.
Рожь под соснами