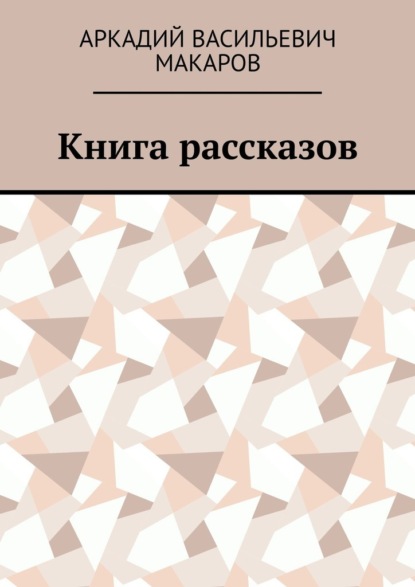По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот я и говорю, – почесал дед в бороде, – баба, она кого хошь одурачит. Стою я так под бугром, чую – мне кто-то ладонь на плечо положил, тихо так, и в затылок холодком дышит. Оглянулся – девка какая-то ненашенская, ласково из-за плеча мне в глаза заглядывает. Цыганка – не цыганка, а волосы по плечам распущены, и вроде цветочек в волосах такой красненький, как уголёк тлеет. Темно вот, а уголёк в волосах тлеет, и вроде как светло от него. А девка эта шепчет быстро-быстро несуразицу какую-то похабную, у меня даже…, ну сам понимаешь что. А она всё зовёт, тянет в сторонку, мол, чего тут со всеми торчать? А кустики, – вот они, рядом. Взяла за руку и повела, как барана под нож. А у меня сердце за пазухой так и прыгает, так и прыгает, как котёнок глупый за мотком шерсти. Зашли мы, значит, за кустики. Она мне руки на плечи положила, и всё в глаза смотрит. Смотрит и смотрит. Смотрит и смотрит. Темно кругом, а я лицо её вижу, и глаза такие жадные, как будто она сто лет под мужиком не была. Потом отошла в сторонку и стала из платья вылезать. Извивается так по змеиному, и выползает, и выползает. Гляжу – он уже голая стоит, и вся белым светом изнутри светится, знаешь, как лампочка матовая, только сиськи и лобок потемнее, а так – вся белая. И кивает мне головой, мол, чего ты стоишь, деревня? Давай, раздевайся, видишь – мне уже невтерпёж – это она мне говорит. Ну, я, это, по-солдатски – раз-два и – вот он! Только ладошкой срам прикрываю. Она – хоть и баба, а всё же – женщина. Голым под одеялом хорошо, а так вот, – как-то и стыдно. Мне, дураку, опять невдомёк, что осень уже, ночи-то холодные, по утрам иней на траве, а я стою голый и мне тепло так, как в избе натопленной. Стою я, а она меня рукой к себе подзывает: « Ну, чего заробел-то? Иди – не мальчик ведь! Я тебе всё сделаю, что ты в жизни со своей женой не видел. Иди!» Ну, я и кинулся в неё головой вперёд, как в речку. Чую – ожгло меня чем-то, как будто в кипяток сунулся. Очнулся – вода кругом до подбородка стоит, да ледяная такая, аж, ноги судорогой сводить стало. Я – к берегу. Взлетел на кручу, и озираюсь. Никого нету, тишина стоит. И за бугром небо синеть зачало. Вдалеке только петухи кукаречат, избы темнеют – Бондари значит. Зубы, то ли от страха, то ли от холода, «барыню» пляшут. Я – шасть по кустам! Какое там… Одежды нету. Туда-сюда – нету! Ты вот смеёсси, а мне, каково было? Голый в деревню не зайдёшь – стадо скоро выгонять будут. Спешить надо. Ну, я, что есть мочи, по стерне – задами да огородами. Бегу, а сзади меня свист страшный и хохот такой, что волосы дыбом поднялись. Через забор перемахнул, а меня своя собака не узнаёт – ощерилась, и давай цепь рвать. Я – за щеколду! Моя, как открыла дверь, так и загремела с подойником. Раскорячилась на полу, и давай икать. Я её за плечи трясти – испугался, а она от смеха давиться начала. У меня в сенях шуба висела. Я её – с крючка! Закутался и гляжу по-чумовому. Уж это после, как кипяточку попил, начал своей бабе синяки показывать. А синяки почему-то по всему телу – тьма-тьмущая, которые в пятак, а которые и в тарелку будут. Вот, – говорю бабе, – шёл от кума, а меня трое с топорами встретили, и давай мутузить, а потом раздели – телогрейку и галифе, в каких с войны пришёл, сняли. Вот голый и прибежал… Спасибо, совсем не убили, а то бы тебя в расход ввёл – лапшу гусиную на поминки варить. Ну, – и так далее.
А моя-то, как отошла от икоты, так и давай меня резиновым сапогом охаживать:
– Паразит ты такой! Ври да не завирайся. А кальсоны с тебя – эти, которые с топорами, то же сняли? Пропойца чёртов! До белой горячки допился! Всю жизнь мою изуродовал! Я бы теперь, коль не ты, как барыня с Петькой Жучком жила! Он поперёд тебя ко мне сватался, да я ему, дура, отказала… Кровопийца чёртов!
Озверела баба, но она не права была, что у меня белая горячка, я перед этим дня три в рот не брал, не на что было…
Лёшка Моряк замолчал, вздохнул как-то тяжко-тяжко и полез за табаком. Кисет он держал, как и всё остальное – за пазухой.
Пока дед возился с цигаркой, я вылил остаток стылой водки в стакан и протянул рассказчику. Доза была вполне приличной. Дед, как будто бодаясь, мотнул головой
– Не! Только после тебя! Лёшка Моряк никогда сукой не был. Пей!
Я прислонил стакан к губам, делая вид, что пью.
Дед, то ли не заметил, то ли постарался незаметить мою хитрость. Опрокинув стакан, он раскраснелся, морщины его разгладились, выражение лица стало глуповато-беспечным.
– Ё-ка-ле-ме-не… – дед зашарил возле себя руками, словно искал в соломе закуску. – А, вот он где! – Лёшка Моряк вытащил из-под себя что-то тяжёлое и чёрное.
Я с ужасом увидел у него в руках длинноствольный щекастый наган с барабаном и большим, как отогнутый кукиш, курком. Наган хищно уставился на меня своим чёрным и глубоким, как колодезь, дулом, затягивая мой взгляд в бездонную пропасть.
Дед, увидев мой испуг, дурашливо хмыкнул и сунул свою пушку туда, за пазуху, откуда он несколько минут назад доставал табак и сало.
Уже было видно, что Лёшка Моряк поплыл, и поплыл, кажется, довольно далеко, к неведомым берегам. Он ткнулся лбом в угол посылочного ящика и замолчал.
Надо было что-то делать.
Так получилось, что я, хоть и рос в селе, но никогда не держал в руках упряжи. Мои родители не были колхозниками, а в нашем хозяйстве, кроме кур да кошки, другой живности не было.
Управлять лошадью – дело нехитрое, и я натянул длинные из брезентового ремня вожжи. Обкуренная лошадь, наверное, устав топтаться на месте, мотнула шеей и радостно затанцевала. Но с места не тронулась. Я догадался слегка шлёпнуть её вожжами, одновремённо отпустив их, и наша «Мурка», кобылка ещё в теле, тут же торопко побежала по снежному полю.
Сколько времени мы с дедом проболтали, я не знаю, но солнце уже стало сползать с макушки под бугор, а зимний день, как известно, короче воробьиного носа.
Надо было спешить, и я, время от времени, зычно покрикивал на кобылу и подгонял её вожжами.
Снег был плотный, и после метели проторённой дороги ещё не было. Я правил санями, ориентируясь по редким кустикам и солнцу. Лошадь бежала бойко, и мне ничего не оставалось, как предаваться своим мечтам. Я представил себя заправским почтовым ямщиком на прогоне. Знаете: «Когда я на почте служил ямщиком…», ну и так далее. Лёшка Моряк помалкивал, уткнувшись носом в солому.
Да, я не сказал ещё одной причины, которая торопила меня в родное село. Я был молод и удачлив, и не без основания надеялся, прежде чем попаду домой, отогреться в очень жарких объятиях одной приветливой особы. Какой, – говорить не стану. Но спешить в Бондари стоило. Меня туда звал терпкий вкус женщины молодой и опытной, а что может быть сильнее этого? Только вкус собственной крови – и больно, и язык сам тянется слизнуть выступившую из ранки кровь…
К женщине, которая меня ждала в Бондарях, я особой привязанности не имел, но время от времени чувствовал в ней неодолимую потребность. Она пугала и притягивала к себе доступностью и откровенностью своих ласк, по-деревенски безыскусных, но не становящихся от этого менее порочными.
Но что такое порок и, что такое добродетель?! Её добродетель заключалась в утолении моих бунтующих желаний, невыносимых и острых, как зубная боль. Порок же её заключался лишь в том, что она не навязчиво, но и без лишних церемоний распахивала передо мной всё бесстыдство и всю невыразимую притягательность женского естества. Всегда, после свиданий с ней, я ещё долго носил в себе пугающую опустошённость убийцы, чувствующий весь ужас содеянного. Если молодость бы знала, если старость бы могла…
Проходило время и меня снова неудержимо тянуло окунуться в её объятья. Вот и теперь, хотя я боялся сам себе в этом признаться, меня влекла домой не столько радость встречи с родителями, сколько пошлая встреча даже не с женщиной самой, а с её роскошными телесами.
Что не говори, – материя первична!
Тем временем солнце уже коснулось красной раскалённой щекой снегового среза на горизонте, окрашивая всё вокруг нежным розовым цветом, переходящим в синий. День шёл к концу, а я всё ехал и ехал по бесконечной снежной равнине. Ни деревеньки, ни домика, только редкие кустики бурьяна со стайками; то ли воробьёв, то ли ещё каких мелких птиц, стремящихся побыстрее, пока не наступили потёмки, отужинать чем Бог послал на сегодняшний день и отправиться на ночлег.
«Ну, ничего, ничего, – успокаивал я себя, – в объезд даже короче будет. Авось, скоро бондарская церковь покажется, её крест виден далеко-далеко, километров за десять-пятнадцать. Так что дотемна доберёмся…». Я стеганул кобылу длинным ремённым кнутом, и она снова прибавила ходу по утрамбованному вчерашним ветром снежному настилу.
Вдали, и правда, вдали что-то обозначилось; вроде, как над сугробом тонкая птичья лапка показалась. Крест! Точно крест! Я радостно ещё раз огрел кобылу, и она вынесла меня на кручу, с которой в низине вдруг открылось село, а на краю села – красавица-церковь с большим голубым куполом и сквозной колокольней над ним, через которую просвечивало холодное зеленовато-синее небо уже вчерашнего дня. На правом крыле креста ослепительным белым репьём светилась одинокая тихая звезда. Звезда полей.
Но это было не наше село. Я с удивлением разглядывал незнакомое село, ещё не осознавая, что минут через десять-пятнадцать стемнеет, а в какой стороне Бондари – мне невдомёк.
Стало ясно, что я заблудился и, как всякий заблудившийся человек, поддался панике. Сгоряча, резко дёрнув на себя вожжи, я попытался развернуть лошадь, но она, рванувшись, вдруг забилась по самое брюхо в снегу, колотя передними ногами, снежный завал перед оврагом в который мы попали. Сани дёрнулись. Что-то затрещало, и большой обломок оглобли, прыгнув вверх, чуть не размозжил мне челюсть. Все мои восторженные мечты о предстоящей встрече в жарких объятьях тут же улетучились. Я выскочил из саней и стоял, не зная, что делать. Только орал очумелое – «Тпру!!!»
Лошадь, наверное, была умнее меня, перестала биться и только мотала большой головой опушённой возле губ колючим инеем.
От резкого толчка, или от моего крика, Лёшка Моряк поднял голову, мотнул ею, как лошадь, и тупо уставился на меня. Потом тряхнул головой ещё раз и, матерясь, на чём свет стоит, выбрался из саней.
Враз оценив обстановку, он, проваливаясь в снег, стал распрягать лошадь, успевая ласково похлопывать её по шее, что-то приговаривая при этом. Затем, ухватив лошадь за уздцы, он осторожно вывел её из ямы, подошёл к саням, вытащил из них полотняную суму с овсом и надел её на шею кобыле так, что её морда почти по самые глаза была в этом мешке. Кобыла довольно фыркнула и принялась увлечённо хрумкать овсом.
– Ты зачем, сучий потрах, в Рождественское угодил? Смотреть надо! Отсюда до Бондарей километров двадцать будет – он показал рукавицей туда, где уже вовсю полыхал на снегу закат.
«К морозу» – почему-то пронеслось у меня в голове, хотя мороз и теперь стоял – будь здоров! Лёшка Моряк ещё пару раз матюкнулся и стал развязывать гужи на сломанной оглобле. Ругань была безобидной, и я, чувствуя свою вину, кинулся услужливо помогать деду.
Невидимая рука уже погасила огромный костёр заката – и пришла ночь.
Упираясь плечами в загнутые дубовые полозья, мы кое-как развернули сани по ходу, в обратную сторону.
Пока лошадь дожёвывала остатки в суме, дед соорудил из концов ремней, что-то вроде тяги взамен сломанной оглобли, и мы мирно закурили. Но, каждый – своё.
Большие звёзды на ясном небе, припушённые морозом, были так близки от нас, что казалось, подпрыгнув, можно сшибить одну из них рукавицей.
Разогревшись от работы, я стоял, затягиваясь резким на морозе сигаретным дымом. Мне было хорошо, и только чувство вины не давало насладиться маленьким приключением и этой тихой звёздной ночью.
Однако, Лёшка Моряк, наверное, думал совсем по-другому. Он, сердито сопя, кружился возле саней, что-то перекладывал и перекладывал, роняя красные искры из самокрутки.
Зная по себе, что никакого удовольствия похмелье не приносит а, скорее – наоборот, я, чтобы как-то задобрить деда и смягчить свою вину, стал убеждать Лёшку Моряка в том, что граммов несколько погоды не сделают, а здоровье поправят наверняка, и потянулся за своей перемётной сумой.
К моей затее дед отнёсся как-то флегматично:
– Вино пить, – не брёвна пилить. Можно. Только починать жалко. Отцу-то чего привезёшь?
Я сказал, что у бати и самогонка не хуже заморского бренди. Не замерзать же, в самом деле?!
– Ну, коль так, так налей на пятак, – дед ощупью отыскал в соломе стакан и передал его мне. Я, хватаясь зубами за козырёк и пришкваривая губу к пробке, снял её, и протянул бутылку деду.
– Ну-ка, посвети! – попросил Лёшка Моряк.
Я зажёг спичку. Бутылка опоражнивалась медленно, в стакан лился беловатый густой сироп. То ли мороз припёк, то ли водка была некондиционной и промёрзла, но такую смесь пить было нельзя.
Я с огорчением посмотрел на открытую бутылку. Как известно, мы единственная страна в мире, где выпускали пробки «пей до дна». Уж коли, открыли посуду, обратно не закроешь, теперь это уже не посуда, а стеклотара.
Лешка Моряк подержал, подержал стакан в руках, посмотрел на него сбоку и протянул мне:
– На, держи! – а сам, опять пошарив в санях, достал жестяное ведро, из которого всегда поил лошадь. Махнул рукавицей по днищу. – Лей суды!