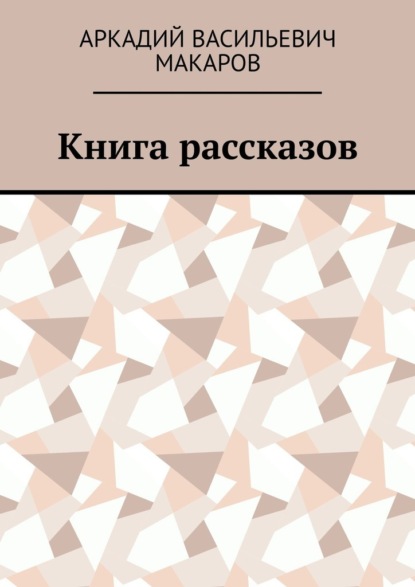По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воронеж город большой, водители хорошей выучки, и наш автобус то и дело плавно подкатывал к очередной остановке и бесстрастный автоматический голос объявлял следующую.
На тот равнодушный голос дюймовочка реагировала резким поворотом головы, пристально вглядываясь в окно и прислушиваясь к голосу, боясь пропустить свою остановку, заветную, заученную наизусть. Было видно, что дюймовочка ещё недостаточно знает город, из чего можно предположить, что она не местная…
«Точно студентка! Судя по опрятности, так несвойственной современной молодёжи, вероятно из мединститута! Точно, будущий хирург! – утвердился я в своём предположении, незаметно приглядываясь к её тонким беспокойным пальчикам без колец и маникюра. – Наверное, хирург или кардиолог!» У меня почему-то самое большое уважение вызывают хирурги и кардиологи. Хотя каждый врач на своём месте необходим. Но, дела сердечные… Мне страстно хотелось, чтобы всё у неё получилось. Уж очень она переполнена своим счастьем и – беззаботна. А невыносимое, большое счастье зачастую является спутницей разочарований…
«Не догорев, заря зарёй сменялась, /Плыла большая круглая луна, /И, запрокинув голову, смеялась, / До слёз смеялась девочка одна.»
Было дело. Было… И на моей улице был праздник. Девочка, подросток, выпускница встречала меня на кочковатой, пыльной жизненной дороге. Дорога порошила глаза, и мне не удалось разглядеть её чистое, распахнутое любови и молодости лицо. Теперь-то, за далью времени мне видится, что оно было прекрасно. Да, оно было прекрасно! И преданные, доверчивые руки ласкали меня по-детски, совсем неумело. И в каждом её движении была неопытность и какая-то все сокрушительная отвага.
За околицей, за последней избой, ещё крытой соломой, меж крутых, обрывистых берегов упрямо рыла чернозём маленькая речка с гордым названием Большой Ломовис.
Речка дышала распаренной за день осокой, влагой, и тем неуловимым запахом счастливой рыбалки, когда эта речка ещё была молодой и вольной, когда её не загаживали химикатами и жизненными отходами нагрянувшие со всех неперспективных сторон, неперспективные жители, когда в широкой пойме шумел камыш и гнулись деревья, когда жалобно пели и плакали тростинки о загубленной человеческой любви, я приходил сюда на свидание с девочкой, простушкой, ещё почти школьницей, выпускницей мечтающей о высоком, чистом и недоступном.
Школьные программы тех времён будили в подростках героическое начало, то, чем славились их отцы и деды, чем жила страна после разрушительной бойни с мировым фашизмом, и в этой девочке тоже жила несокрушимая справедливость, которая меня, прошедшего уроки жёсткой действительности, озадачивала и даже пугала. Вместе с тем, особенно пугала её какая-то, ещё детская беспечность к себе самой: моя репутация была не совсем подходящей для свиданий со столь юным созданием.
Встречались на узенькой тропинке, быстро говорили что-то совсем незначительное, пустое, хватались за руки и ныряли от любопытного взгляда огромной, ополоумевшей от одиночества луны, в чёрную, густую тень скрипучей ветлы. Ветла была стара, горбата, ветви её полоскались в воде, и напоминали длинные волосы припозднившейся для купания женщины. Только плеск воды. Только обжигает ухо резкий, прерывистый, задыхающийся шепот: «Люби меня! Люби меня! Люби меня…»
Ночь обнадёживает. Луна ничего никому не расскажет. Глубокие лощины меж высоких, поседевших от времени холмов на правом берегу, истекают парным молоком тумана. Холмы напоминают огромные груди огромной спящей женщины. Глухое, молчаливое село затаилось в сладострастном ожидании. Молодость, молодость, молодость… В чёрной воде нет-нет, да и всхлипнет, причмокивая слюнявыми губами водяной, оплакивая своё одиночество: омута не те, нет, не те омута, никто не тонет, и русалки все до одной перебрались в районный клуб, где каждую ночь можно всласть поиграться щекоткой с местными рукастыми парнями. Горе одному!
Ночь обнадёживает. Всё скрыто, всё за семью печатями. Сладость поцелуев ещё не предполагает их горечи. Девочка счастлива… " Она была веселой и беспечной,/ И каждый вечер верила со мной/ Она любви единственной и вечной,/ В которой мы признались под луной.
Всё было так. Иначе и быть не могло под одуряющим светом луны. Сельская ночь короче воробьиного носа. В городе этого не замечаешь. Не до того вроде. Там и луны-то никакой нет. Дома, дома, дома. Стены, стены, стены. А здесь всё не так. Не успел зажечь спичку, чтобы прикурить, как робко на цыпочках босиком по воде уже пробежал ветер. Очнувшись от обморочного сна, по-младенчески над головой залепетали продолговатые, серебристые на исподе листочки нашей впавшей в беспамятство ветлы. В помятой траве завозились, заскрипели, зашелестели её бесчисленные жители. В камышах спросонья плюхнулась в набежавшую волну лысуха, селезней присуха. Небо по горизонту стало вскипать облаками. Розово полыхнуло по небу. То ли от потока зари, то ли от небесной голубизны и глуби, истончилась и стала таять, словно брошенная в кипяток льдинка, высокая, выше самого неба, луна.
Динь-динь-динь! День, день, день!
Короткое лето, а отпуск ещё короче. Снова «кузнечный гром завода», снова – дни получки и гул рабочего общежития. «Нам денег не надо, нам славы не надо. Работать, давай!»
Монтажные дороги-перепутья. Пыль застит свет, разъедает глаза. Работа, работа, работа…
– Ты, работа, нас не бойся! Мы тебя не тронем!
– Работа не член… правительства, постоит!
– Яблон, беги за водярой!
– Сбегал бы я, да очередь твоя!
– Ну, ладно. Подвинься. Я сгоняю!
…Приехала. Стоит в дверях. В руке пакетик. Как только её родители отпустили? Плащик голубой, новенький. Маленькие ножки в туфельках. Смущённо улыбается. Вроде, виновата в чём…
…Ну, так получилось… Не встретил… Телеграмму забыл на вахте… Вот пьём, гляди! Садись, я – щас!
Обиделась. Бросила пакетик с домашними гостинцами. По лестнице туфельки: тук, тук-тук-тук! Убежала…
Надо было бы догнать. Прижать к себе. Вытереть девичьи слёзы. А тут – ребята… Водка… Бригада «Ух!»…
…Давным-давно мы навсегда расстались,/ О том, что было, не узнал никто…/ И годы шли,/ И женщины смеялись,/ Но так смеяться не умел никто…
Долго, очень долго длинными ночами во сне – «Ааа!» – кричал я в прогорклую темноту барака и хватал воздух горстями, но в руках оставался только горький дым девичьих обид и ничего более.
Мне кажется, что посреди веселий,/ В любых организованных огнях,/ Я, как дурак, кружусь на карусели,/ Кружусь, кружусь на неживых конях.
Занесло, закружило и выбросило далеко-далеко…
А где-то ночь всё догорать не хочет,/ Плывет большая круглая луна,/ И, запрокинув голову,/ Хочет,/ До слёз хохочет девочка одна…
ЛЕТЯТ УТКИ…
Александр Михалыч Акулинин
Сам рукаст, широк и крепкогруд.
В бороде, как в зарослях полыни,
Воробьи весёлые живут.
Что и говорить, писатели при коммунистах пожили, как дай Бог пожить в нынешнее время каждому. Бывало, заскучает творческая личность, затужит, да и спешит к заведующему Бюро по пропаганде художественной литературы договориться о выступлении в каком-нибудь дальнем районе, где и люди попроще, и начальство не прижимистое, хотя тогда ни денег, ни ещё чего начальники не жалели, и то сказать – не своё, общественное. Была бы причина, а остальное всегда найдётся.
Надо сказать, что в то время у нашего заведующего Бюро по пропаганде художественной литературы во всех районах партийные секретари по идеологии были людьми своими: с одними он учился в институте, с другими имел общих знакомых, с третьими пил. Так что взять трубку и позвонить в райком по вопросу организации творческой встречи писателя такого-то или группы писателей, – дело пустяшное. На том конце провода радость – можно, используя рабочее время, оттянуться по полной программе, обеспечить писателям соответствующую атмосферу, чтобы, не дай Бог, оказаться менее гостеприимными, чем их соседи. А у тех соседей – известное дело, как говорил один поэт, – и мясо в щах и хруст в хрящах. А писателям что? Они, известное дело, люди отвязные, привыкшие к разным вольностям и радостям жизни…
Да, писатели при коммунистах пожили! А при нынешней вороватой власти что? Раньше в обком только покажи членский билет – мухой влетай! А вот на днях я попытался пройти в здание областной организации, называемой администрацией, как будто другого слова в русском языке не нашлось? А – не тут-то было! Развернув свой красный складень, я по привычке смело шагнул за турникет, но тут же был грубо остановлен розовощёким крепышом-милиционером, привратником в чине сержанта, чтобы упаси Господи!, какой-нибудь писака не проник в святая-святых, в этот чиновничий улей мавзолейной архитектуры.
Когда я пытался объяснить крепышу, что я член писательской организации России, то привратник заухмылялся: « А я тоже член! Да ещё какой! Если встанет вопрос, то я сам вручную или на машинке его решу. Показать?
Порекомендовав ему быть повежливей и не хамить, я пошёл в бюро пропусков, где этот вопрос, не без трудностей, но всё же с кем-то согласовав, уладили. Допустили до самых верхов, порекомендовав долго не задерживаться – чиновник занят.
– О чём разговор! Я же к нему не с бутылкой иду! – не выдержав назиданий, я тоже забыл вежливость.
Весь этот разговор веду к тому, что писатели при Советской власти жили так, как я сам себе того желаю. А за это всего-то и надобно было показать в своих творениях борьбу хорошего с ещё более лучшим, где передовое непременно побеждает. Литература должна быть партийной – и вся недолга! Правда, не каждый мог поступиться принципами, потому и не каждого печатали, а то и того хуже, – повяжут – и в загон!
…По-моему, Александра Михайловича Акулинина я знаю всю свою сознательную жизнь, настолько он мне понятен и близок. Мы оба из деревни, как говориться, от сохи. Он пораньше, а я попозже впитывали в себя наше голодное послевоенное время, когда с утра и до вечера, как от Рождества Христова до Пасхи. Ждёшь – не дождешься, как в ладонях запляшет, засмеётся рассыпчато картошка в мундире – ужин на сон грядущий, а потом провалишься в чёрную бездну сна, как мать, жалеючи тебя, уже тормошит за плечо: «Вставать давай, рассвело уже, бригадир опять ругался, что ты спал в бистарке, а бабам воду на бахчи не привёз. Смотри у меня! Жрать-то зимой что будешь? Вчерашней палочки на трудодень нет. Отработай сегодня за вчерашнее. Упроси бригадира. Скажи, – мать к празднику бутылочку поставит. Дрожжи у неё есть. Как время найдет, так и поставит…»
Такой, или примерно такой разговор я слышу в своём сердце, читая замечательную повесть Александра Акулинина «Шурка-Поводырь». Ярко, зримо и образно описано Шуркино детство и его быстрое взросление в тяжелейшее для страны время – разруха, разруха, разруха и ещё раз – разруха. А когда в России не было разрухи?..
Но, я сегодня не о творчестве Акулинина, ни о его литературных способностях и пристрастиях, для этого у нас есть свои критики, это их хлеб.
…Разгар лета. В воздухе висит знойный звук то ли тяжёлого, шершавого шмеля, то ли далёкого самолёта, сразу и не разберёшь, тем более что ни шмеля, ни самолёта не видно. Ветви берёз над головой утомлённые солнцем безвольно обвисли, и не один листочек не встрепенётся равнодушный к окружающему миру и к нам, не понимая; зачем собрались здесь, на траве люди и заговорили о чём-то на своём непонятном и чудном языке. В такое время лучше помолчать в сладкой дрёме, а они, эти люди, разгулялись…
Наверное, так думает березняк, обступивший нашу компанию со всех сторон. Жарко. А нам хорошо. На огромной брезентовой кошме, в зелёном холодочке нежимся в обществе партийных и хозяйственных руководителей, для которых такие застолья вошли в обиход, а для нас, писателей, они ещё не совсем привычны. В двух больших обливных тазах томятся коричневой хрустящей корочкой вымазанной в сметане, только что выловленные и запеченные на решётках широколистые караси, отобранные – один к одному. Небольшое ведёрко пунцовых раков лежащих теперь уже смирно. Рядом эмалированный таз с крупной, но слегка перезревшей вишней – яркие струйки кое-где обрызгали белую кромку таза. На большом деревянном ящике из-под хлеба, метровые шпаги с большими кусками баранины, ещё не остывшей, ещё фырчащей, когда над ними раздавишь увесистый гранат, обливая пальцы его кисло-сладким багряным соком. Водка прозрачней родниковой воды ещё пока до времени заперта в бутылках покрытых зябкими мурашками – сразу видно, – из холодильника. Но команда дана, и парторг колхоза молодой, из бывших трактористов парнишка, приступил к стягиванию белых кепочек с узкогрудых озорных бутылок. Сразу же наступила гробовая тишина, – только лёгкое бульканье в стаканы.
Хорошо сидим!
Вместо хлеба, ещё тёплые щекастые пышки из пшеничной муки собственного помола, вкусные и крепкие. Это не городской батон недельной свежести!
Жир, стекающий по рукам, сочная мякоть баранины, пучки пряной зелени и первая порция водки к разговору ещё не понукают, но настроение уже приподнятое. Дай Бог вам такого настроения в текущее время!
Но вот всё бойчее слетают с бутылок бескозырки, всё громче смешки и мягкий беззлобный матерок, который так сдабривает русскую речь, как сдабривает вон тот стручок красного перца жирный кусок баранины – приправа!