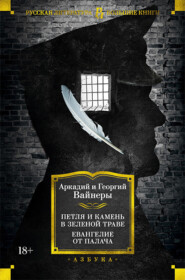По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лекарство против страха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На вокзальных часах было двадцать минут девятого. Вечер пропал, подумал я. Если отложить на завтра встречу с Лыжиным, то пропадет и половина завтрашнего дня, а так нужно побывать дома у Пачкалиной! Может быть, заехать к Лыжину? Коли я застану его дома, это высвободит завтра массу времени. Домашний адрес Лыжина у меня был. Я еще минуту колебался, потом сел в такси и сказал шоферу:
– В Трехпрудный переулок.
Это был дореволюционной постройки шестиэтажный дом с флигелями, боковыми пристройками, дворами-колодцами. На скамейке под фонарем сидела компания молодых ребят, один из них играл на гитаре и пел нарочито хриплым голосом. Он очень старался хрипеть, чтобы выходило похоже на «роллинг стоунзов», но голос, молодой, чистый, его не слушался – выходило все равно хорошо. Один из ребят подбежал ко мне, скороговоркой бормотнул:
– Дя-енька, дай закурить!
Я остановился, посмотрел на парня – белобрысого, веснушчатого. Оттого что он быстро шевелил верхней губой и подергивал коротким вздернутым носом, казался парень сопливым и нахальным. Мне хотелось сказать ему, что мальчишкам курить нельзя, что глупо сидеть здесь на лавке, что ужасно жаль, если из них выйдут Борисы Чебаковы и какому-то неизвестному Позднякову придется держать их на учете… Но ничего не сказал: нельзя воспитывать людей в подворотне, походя. Для этого нужно прожить неблагодарную, трудную жизнь Позднякова. Я повернулся и вошел в подъезд. Парень крикнул вслед:
– Жадюга!
Лифта не было. Я медленно шел по лестнице на четвертый этаж, марши были огромные, на некоторых площадках свет не горел, пахло кошками. Под звонком висели таблички с фамилиями жильцов, но рассмотреть их было невозможно, и я позвонил один раз. За дверью долго было тихо, потом раздались негромкие шаркающие шаги, стукнула цепочка, щелкнул замок, в узкую щель глянуло плоское старушечье лицо:
– Кого надо?
– Мне нужен Владимир Константиныч.
– Три звонка ему звонить. А вы кто ему будете?
Я усмехнулся:
– А вы?
– Я? Как кто? Соседка я ему!
– А я знакомый. Так он дома?
– Нету его. – И захлопнула дверь.
Чертыхнувшись, я пошел вниз. Было обидно за потерянный вечер, и я решил съездить к Горовому. Позвонил из автомата на Петровку, и мне довольно быстро нашли его адрес.
– Не знаю я, кто это сказал – не то Лассаль, не то Пастер, а может быть, Паскаль или вовсе Лассар, – засмеялся Горовой. – Но сказал, к сожалению, верно.
– Не похожи вы на пессимиста, Нил Петрович, – заметил я.
– Так дело не в пессимизме. Вы же сами на своей работе часто встречаетесь с этим: справедливость извечно была предметом споров, а сила всегда очевидна. И поэтому гораздо легче сделать, увидеть или назвать Сильное – справедливым, чем Справедливое – сильным.
– Ну коли зашла речь о моей работе, то ее задача и есть наделять справедливость необходимой силой.
– Да я и не спорю, но ведь большинство человеческих конфликтов, нуждающихся в сильной справедливости, не опускается, к счастью, до норм уголовного права. – Горовой хитро смотрел на меня, чуть откинув назад крупную, уже начавшую лысеть голову. Для его среднего роста и худощавой комплекции голова была, пожалуй, крупновата, зато, доведись кому-либо, хоть и Пачкалиной, опознавать Горового, пускай даже по самой плохой фотографии, это не вызвало бы затруднений.
Я смотрел на него, и меня не покидало ощущение, что все свое внимание, всю фантазию, все силы отдал творец этой головы верхней ее части – мощный лоб куполом, подвижные брови вразлет, сильное переносье треугольником и чуть прищуренные глаза насмешника, шкодника и забияки. Кончик носа с глубоко прорезанными чувственными ноздрями еще нес след вдумчивой работы, хотя он у?же, короче и вздернутей, чем это необходимо по жестким требованиям пропорции и гармонии. А рот и тем более подбородок создавались наверняка в пятницу вечером, к концу рабочего дня – это была уже откровенная халтура: прилепили случайно оказавшиеся под рукой пухлые губки бантиком и маленький, словно стертый, подбородок – и вышел в свет со своим негармоничным, обаятельным и веселым лицом Нил Петрович Горовой, к которому я приехал около десяти часов вечера, застав его семью в сборах для переезда на новую квартиру.
Мебель была отодвинута от стен, из серванта вынуты стекла, телевизор, перевязанный веревкой, стоял на полу, запакованные чемоданы, узлы, свертки, одинокая лампочка вместо отсоединенной и обернутой тканью люстры, сложенные в углу штабелем бакалейные картонные ящики, на которых написано красным фломастером: «Химия – математика», «Педагогика», «Поэзия», «Проза», «Фантастика», «Смесь»…
И стулья тоже были связаны в многоногий квадратный стог. Жена Горового растерянно разводила руками:
– Господи, посадить человека некуда, чаем напоить не из чего…
Все-таки местечко отыскали: меня Горовой усадил на чемодан, скрученный белой толстой веревкой, а сам пристроился на подоконнике. Несмотря на мои возражения, жена его убежала к соседям доставать чайник и стаканы.
А Горовой с детской гордостью демонстрировал мне лист зеленой гербовой бумаги, поперек которой было написано красными печатными буквами «Ордер», и объяснял, что Теплый Стан, несомненно, самый красивый и здоровый район массовой застройки.
– Мы с соседями прекрасно жили всегда, но отдельная квартира – это все-таки здорово! Что ни говорите, а здорово! – повторял он, словно я убеждал его отказаться от ордера. – Вот только в школу мне будет ездить далековато. Да, впрочем, и это не страшно: там скоро пустят метро.
– Там ведь и школы новые строят, а у вас специальность дефицитная – преподаватель химии. Может быть, туда перевестись? Ближе к дому?
– Ну это не по мне! – отрезал Горовой, и веселый блеск в его глазах на миг пригас. – Принимая седьмой класс, я веду его до окончания школы.
– Но там, наверное, такие же точно ребята? – спросил я.
– Да, конечно. Но, по моему убеждению, ничто так не убивает интерес ребят к предмету, как смена педагога. – Он развел руками, словно извиняясь передо мной за мою непонятливость. – Я хочу сказать, что учитель знания обязательно должен быть для детей и воспитателем чувств. И нужен немалый срок для того, чтобы ребенок принял учителя на эту должность – воспитателя, потому что руководствуется он другими критериями, чем отдел кадров гороно. И разрушать веру ребенка в чудо узнавания, которое ему может принести только его воспитатель, нельзя…
– Но ведь приходится считаться с реальными обстоятельствами: учителя в силу самых разных причин меняются, и тут ничего не сделаешь.
– Не сделаешь, – согласился он. – А я все-таки верю, что когда наше общество достигнет необходимого духовного и материального расцвета, то будут конкурсы не на замещение должности научных сотрудников, солистов оперы, главных конструкторов и балетных примадонн, а учредят конкурс-испытание на место школьного учителя.
Наверное, на моем лице не было достаточного понимания значительности этой перспективы в эпоху материального и духовного расцвета моих будущих внуков, потому что Горовой, бросив на меня косой взгляд, нахмурился, а потом, не выдержав, улыбнулся:
– Ну ладно, не волнует это вас совсем, я вижу! Мой энтузиазм понять можно: толкового химика из меня не вышло, вот я и мечтаю, чтобы из ста моих школьных выпускников нашелся один, который сделает с походом – и за себя, и за меня.
– Охотно присоединяюсь к вашей надежде. И хочу спросить, кстати: при каких обстоятельствах из вас не вышло, как вы говорите, толкового химика?
– При обстоятельствах житейских, – засмеялся Горовой. – В одном мешке оказалось не два кота, а целая компания, и с очень уж разными характерами.
– Наверное, такая ситуация может помешать служебному продвижению, – заметил я. – Но стать толковым специалистом…
– Нет, нет, нет! – замахал руками Горовой. – Вы не поняли – я не ссылаюсь на обстановку. Просто из-за сложившихся отношений с руководителем лаборатории я вылетел раньше, чем стал хорошим специалистом.
– А кто был вашим руководителем?
– Есть такой деятель науки и техники – Александр Николаевич Панафидин. Сейчас он уже в корифеях ходит.
– У вас возник с ним конфликт?
– Ну, как вам сказать, все это протекало очень протокольно, достойно и вежливо: просто я не уложился в аспирантский срок, и он меня мгновенно вышиб из лаборатории. Так что для бурных сцен ни времени, ни условий не оказалось.
– А как он объяснил свою непримиримость?
– Чего же там объяснять? Формально у него были для этого основания, а всем ходатаям за меня он сообщал доходчиво и категорично: «Горовой химию не любит». Самое смешное, что, по-моему, он оказался прав.
– То есть?
– Тогда я прямо задыхался от обиды, ярости и горя и пошел в учителя на год, потому что место, обещанное мне в одной проблемной лаборатории, еще только должно было освободиться. А пробежало с тех пор почти пять лет, и уходить из школы я не думаю.
– Интересно?
– Это, наверное, не то определение. Просто я случайно открыл для себя свое настоящее призвание, я ведь никогда раньше и не думал заниматься преподаванием. А это, оказывается, такой прекрасный, удивительный мир! Очень хотелось бы, коли найдется время и силы, написать о школе книжку.
– В Трехпрудный переулок.
Это был дореволюционной постройки шестиэтажный дом с флигелями, боковыми пристройками, дворами-колодцами. На скамейке под фонарем сидела компания молодых ребят, один из них играл на гитаре и пел нарочито хриплым голосом. Он очень старался хрипеть, чтобы выходило похоже на «роллинг стоунзов», но голос, молодой, чистый, его не слушался – выходило все равно хорошо. Один из ребят подбежал ко мне, скороговоркой бормотнул:
– Дя-енька, дай закурить!
Я остановился, посмотрел на парня – белобрысого, веснушчатого. Оттого что он быстро шевелил верхней губой и подергивал коротким вздернутым носом, казался парень сопливым и нахальным. Мне хотелось сказать ему, что мальчишкам курить нельзя, что глупо сидеть здесь на лавке, что ужасно жаль, если из них выйдут Борисы Чебаковы и какому-то неизвестному Позднякову придется держать их на учете… Но ничего не сказал: нельзя воспитывать людей в подворотне, походя. Для этого нужно прожить неблагодарную, трудную жизнь Позднякова. Я повернулся и вошел в подъезд. Парень крикнул вслед:
– Жадюга!
Лифта не было. Я медленно шел по лестнице на четвертый этаж, марши были огромные, на некоторых площадках свет не горел, пахло кошками. Под звонком висели таблички с фамилиями жильцов, но рассмотреть их было невозможно, и я позвонил один раз. За дверью долго было тихо, потом раздались негромкие шаркающие шаги, стукнула цепочка, щелкнул замок, в узкую щель глянуло плоское старушечье лицо:
– Кого надо?
– Мне нужен Владимир Константиныч.
– Три звонка ему звонить. А вы кто ему будете?
Я усмехнулся:
– А вы?
– Я? Как кто? Соседка я ему!
– А я знакомый. Так он дома?
– Нету его. – И захлопнула дверь.
Чертыхнувшись, я пошел вниз. Было обидно за потерянный вечер, и я решил съездить к Горовому. Позвонил из автомата на Петровку, и мне довольно быстро нашли его адрес.
– Не знаю я, кто это сказал – не то Лассаль, не то Пастер, а может быть, Паскаль или вовсе Лассар, – засмеялся Горовой. – Но сказал, к сожалению, верно.
– Не похожи вы на пессимиста, Нил Петрович, – заметил я.
– Так дело не в пессимизме. Вы же сами на своей работе часто встречаетесь с этим: справедливость извечно была предметом споров, а сила всегда очевидна. И поэтому гораздо легче сделать, увидеть или назвать Сильное – справедливым, чем Справедливое – сильным.
– Ну коли зашла речь о моей работе, то ее задача и есть наделять справедливость необходимой силой.
– Да я и не спорю, но ведь большинство человеческих конфликтов, нуждающихся в сильной справедливости, не опускается, к счастью, до норм уголовного права. – Горовой хитро смотрел на меня, чуть откинув назад крупную, уже начавшую лысеть голову. Для его среднего роста и худощавой комплекции голова была, пожалуй, крупновата, зато, доведись кому-либо, хоть и Пачкалиной, опознавать Горового, пускай даже по самой плохой фотографии, это не вызвало бы затруднений.
Я смотрел на него, и меня не покидало ощущение, что все свое внимание, всю фантазию, все силы отдал творец этой головы верхней ее части – мощный лоб куполом, подвижные брови вразлет, сильное переносье треугольником и чуть прищуренные глаза насмешника, шкодника и забияки. Кончик носа с глубоко прорезанными чувственными ноздрями еще нес след вдумчивой работы, хотя он у?же, короче и вздернутей, чем это необходимо по жестким требованиям пропорции и гармонии. А рот и тем более подбородок создавались наверняка в пятницу вечером, к концу рабочего дня – это была уже откровенная халтура: прилепили случайно оказавшиеся под рукой пухлые губки бантиком и маленький, словно стертый, подбородок – и вышел в свет со своим негармоничным, обаятельным и веселым лицом Нил Петрович Горовой, к которому я приехал около десяти часов вечера, застав его семью в сборах для переезда на новую квартиру.
Мебель была отодвинута от стен, из серванта вынуты стекла, телевизор, перевязанный веревкой, стоял на полу, запакованные чемоданы, узлы, свертки, одинокая лампочка вместо отсоединенной и обернутой тканью люстры, сложенные в углу штабелем бакалейные картонные ящики, на которых написано красным фломастером: «Химия – математика», «Педагогика», «Поэзия», «Проза», «Фантастика», «Смесь»…
И стулья тоже были связаны в многоногий квадратный стог. Жена Горового растерянно разводила руками:
– Господи, посадить человека некуда, чаем напоить не из чего…
Все-таки местечко отыскали: меня Горовой усадил на чемодан, скрученный белой толстой веревкой, а сам пристроился на подоконнике. Несмотря на мои возражения, жена его убежала к соседям доставать чайник и стаканы.
А Горовой с детской гордостью демонстрировал мне лист зеленой гербовой бумаги, поперек которой было написано красными печатными буквами «Ордер», и объяснял, что Теплый Стан, несомненно, самый красивый и здоровый район массовой застройки.
– Мы с соседями прекрасно жили всегда, но отдельная квартира – это все-таки здорово! Что ни говорите, а здорово! – повторял он, словно я убеждал его отказаться от ордера. – Вот только в школу мне будет ездить далековато. Да, впрочем, и это не страшно: там скоро пустят метро.
– Там ведь и школы новые строят, а у вас специальность дефицитная – преподаватель химии. Может быть, туда перевестись? Ближе к дому?
– Ну это не по мне! – отрезал Горовой, и веселый блеск в его глазах на миг пригас. – Принимая седьмой класс, я веду его до окончания школы.
– Но там, наверное, такие же точно ребята? – спросил я.
– Да, конечно. Но, по моему убеждению, ничто так не убивает интерес ребят к предмету, как смена педагога. – Он развел руками, словно извиняясь передо мной за мою непонятливость. – Я хочу сказать, что учитель знания обязательно должен быть для детей и воспитателем чувств. И нужен немалый срок для того, чтобы ребенок принял учителя на эту должность – воспитателя, потому что руководствуется он другими критериями, чем отдел кадров гороно. И разрушать веру ребенка в чудо узнавания, которое ему может принести только его воспитатель, нельзя…
– Но ведь приходится считаться с реальными обстоятельствами: учителя в силу самых разных причин меняются, и тут ничего не сделаешь.
– Не сделаешь, – согласился он. – А я все-таки верю, что когда наше общество достигнет необходимого духовного и материального расцвета, то будут конкурсы не на замещение должности научных сотрудников, солистов оперы, главных конструкторов и балетных примадонн, а учредят конкурс-испытание на место школьного учителя.
Наверное, на моем лице не было достаточного понимания значительности этой перспективы в эпоху материального и духовного расцвета моих будущих внуков, потому что Горовой, бросив на меня косой взгляд, нахмурился, а потом, не выдержав, улыбнулся:
– Ну ладно, не волнует это вас совсем, я вижу! Мой энтузиазм понять можно: толкового химика из меня не вышло, вот я и мечтаю, чтобы из ста моих школьных выпускников нашелся один, который сделает с походом – и за себя, и за меня.
– Охотно присоединяюсь к вашей надежде. И хочу спросить, кстати: при каких обстоятельствах из вас не вышло, как вы говорите, толкового химика?
– При обстоятельствах житейских, – засмеялся Горовой. – В одном мешке оказалось не два кота, а целая компания, и с очень уж разными характерами.
– Наверное, такая ситуация может помешать служебному продвижению, – заметил я. – Но стать толковым специалистом…
– Нет, нет, нет! – замахал руками Горовой. – Вы не поняли – я не ссылаюсь на обстановку. Просто из-за сложившихся отношений с руководителем лаборатории я вылетел раньше, чем стал хорошим специалистом.
– А кто был вашим руководителем?
– Есть такой деятель науки и техники – Александр Николаевич Панафидин. Сейчас он уже в корифеях ходит.
– У вас возник с ним конфликт?
– Ну, как вам сказать, все это протекало очень протокольно, достойно и вежливо: просто я не уложился в аспирантский срок, и он меня мгновенно вышиб из лаборатории. Так что для бурных сцен ни времени, ни условий не оказалось.
– А как он объяснил свою непримиримость?
– Чего же там объяснять? Формально у него были для этого основания, а всем ходатаям за меня он сообщал доходчиво и категорично: «Горовой химию не любит». Самое смешное, что, по-моему, он оказался прав.
– То есть?
– Тогда я прямо задыхался от обиды, ярости и горя и пошел в учителя на год, потому что место, обещанное мне в одной проблемной лаборатории, еще только должно было освободиться. А пробежало с тех пор почти пять лет, и уходить из школы я не думаю.
– Интересно?
– Это, наверное, не то определение. Просто я случайно открыл для себя свое настоящее призвание, я ведь никогда раньше и не думал заниматься преподаванием. А это, оказывается, такой прекрасный, удивительный мир! Очень хотелось бы, коли найдется время и силы, написать о школе книжку.