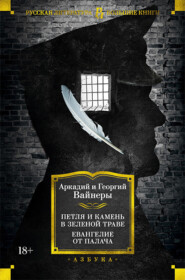По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лекарство против страха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Короткий, очень острый ланцет неумолимо полоснул белую мальчишескую кожу выше колена – раз снаружи, раз изнутри, мелькнул светлый слой жира и сразу стал окрашиваться багровой струей хлынувшей в разрез крови.
– Жгут! – кричу я.
Впилась коричневая змея жгута выше надреза, стянула сосуды, я промокнул корпией раны и полоснул ланцетом по мышце.
– Следите внимательно за моими действиями, – говорю я помощникам. – Я мог бы оставить ему колено, удалив конечность по суставу на сгибе. Но черные ростки гнойного воспаления, с которыми мы не можем бороться, уже потянулись вверх по ноге. Решим, как полководец в сражении: лучше потерять часть, чем лишиться всего войска…
Ужасным, разрывающим душу, нечеловеческим криком исходит привязанный к столу юноша. Одному из драгун, державших лучины, стало плохо, и он со стоном падает на пол. Рассыпалась лучина, и угольки, закатываясь в лужи стекающей со стола крови, гаснут с пронзительным шипением.
– Уберите его отсюда вон! – кричу я. – Еще огня! Дайте несколько факелов…
Драгуна сразу же оттащили в сторону, вспыхнул огонь, с новой силой пронзительным визгом зашелся раненый. Из раны показалась сахарно-белая берцовая кость.
– Пилу! – командую я. – Стакан водки!
Помощник подносит мне стакан к губам.
– Да не мне! Больному!..
Соренсен пьет, захлебываясь, потом его рвет, и он на мгновение стихает.
С посвистом и тонким хрустом врезается пила в кость, и сразу же снова диким воплем заходится несчастный. Левой рукой я хватаю ланцет и пересекаю сухожилия – нога отделилась от туловища.
Лекарский помощник берет ее осторожно, кончиками пальцев, и бережно, будто опасаясь причинить ей боль, кладет в таз.
С внешней стороны бедра я оставил длинный лоскут кожи и кусок мышцы – сейчас я загибаю этот кусок конвертом на остаток ноги, закрыв им рану на культе.
– Иглу! – Золотая иголка с шелковой ниткой проворно бегает в моих руках, закрывая ровным швом разрез. Я наклоняюсь к Соренсену: – Успокойся, дружок, потерпи еще чуть-чуть, через пять минут все будет кончено…
Но юный рыцарь ничего не отвечает, впав от боли и потери крови в беспамятство.
На стол укладывают рейтара с выбитым глазом и разорванным до уха ртом. Я стою у окна с кружкой подогретого вина, гляжу на серую вспененную воду залива, холодный дождь, заливающий темную булыжную мостовую, черные дымы пожарищ, стелющиеся над крышами разграбленного и разоренного города, красные пятна костров на площадях, слышу крики и ругань пьяной солдатни, ржание напуганных лошадей, тонкий плач брошенного ребенка, заливистые крики маркитантов, и в сердце моем оседает тоска.
Я думаю о том, что занимаюсь не своим делом, что будущее медицины никак не связано с этим варварским, мучительным членосечением. Как объяснить всем, что будущее – в понимании человеческого организма и открытии новых лекарств, которые смогут регулировать течение болезни? Ведь Гиппократ был безусловно не прав, полагая, что организм сам и есть себе целитель. Природные лекарства – растения, которые с успехом применяются, – опровергают это. Значит, можно воздействовать на болезнь и искусственными веществами, как это делают алхимики. Надо лучше узнать и понять природу химических превращений. Но нет времени и нет денег. Надо ехать в Марку – Великие нидерландские штаты…
Подходит лекарский помощник:
– Господин доктор, раненый на столе.
– Иду, иду…
Глава 7
«У меня миленок лысый…»
Зазвонил телефон, и, еще не поднеся трубку к уху, я услышал густой, мазутный голос.
– Тихонов? Дежурный по управлению Суханов. Вчера около двадцати часов два афериста залепили самочинку, – гудело в трубке. Я подумал, что голоса человеческие имеют цвет. У дежурного голос был темно-коричневый. – Генерал почему-то приказал сообщить тебе об этих аферистах. Мол, ты сам знаешь почему, – говорил Суханов. – Я даже удивился: ты же мошенниками не занимаешься?
– Нет, не занимаюсь, – сказал я. – Вообще-то, не занимаюсь.
– Ну, тогда не знаю, – ответил Суханов. – Вам виднее.
– Ага. Ты мне адрес продиктуй.
– Чей? Потерпевшей?
– Ну зачем же… Твой, домашний, – мирно сказал я и подумал, что здесь тоже потерпевшая; не потерпевший, а потерпевшая. Потерпевшая Пачкалина и потерпевшая… – Как ее фамилия?
– Шутишь все, – осудил меня Суханов. – Записывай: Рамазанова Рашида Аббасовна, Щипков переулок, дом двенадцать, квартира сорок шесть. Туда опергруппа уже выехала. Генерал велел послать за тобой машину.
– Очень трогательно.
– Ты в управление потом приедешь?
– Не знаю пока.
– Будь здоров. Машину долго не держи.
Допрашивал инспектор из 4-го отдела МУРа Гнездилов, допрашивал толково и быстро. Я сидел в углу на стуле, повернутом задом наперед, облокотившись на спинку и уперев подбородок в ладони, внимательно слушал, разглядывал комнату, потерпевшую, двоих детей на диване и думал о том, как беда, войдя в человеческий дом, сразу делает похожими самые разные человеческие жилища – богатые и бедные, красивые и безвкусные. Прекрасные, любовно украшенные квартиры и запущенные воровские хазы после обыска имеют так много общего! Распахнулись пухлые животы шкафов, вывалив свои внутренности на пол, на кровати и стулья, везде валяются какие-то бумажки, выдвинуты ящики, разворошено белье, скинуты с полок книги, приподняты половицы и надрезаны обои. Но самое главное, видимо, в той едкой атмосфере испуга, слезливой возбужденности, стыда, боли, умирающей надежды, беспощадной оголенности под взглядами чужих людей.
Квартира Рамазановой была хорошо обставлена, со вкусом украшена, и все в ней было сейчас разбросано, перемешано, царили разор и хаос. Около трельяжа на низеньком пуфе лежал расчесанный и завитой шиньон, и этот треклятый шиньон все время отвлекал меня, расслаблял внимание, потому что с того места, где я сидел, был он сильно похож на отрубленную голову, и эта аккуратная прическа отрубленной головы не давала мне покоя. И два мальчика – десяти и пяти лет – испуганно смотрели на меня с дивана. А сама Рамазанова держалась хорошо. Молодая стройная женщина с быстрыми синими глазами. Только золотых зубов у нее было многовато – казалось, что она вырвала здоровые зубы и вставила себе два полных золотых протеза.
– Нет, кроме ста двадцати рублей и моего кольца, они ничего не забрали, – быстро повторяла она, и так она все время напирала на то, что взять больше было нечего, будто боялась: не поймут люди безысходной бедности и сирости ее. А так-то держалась она спокойно, уверенно, вот только о пальцах своих совсем забыла, и я все время внимательно наблюдал за ними. Руки у нее были красивые, ухоженные, нежные, и так неожиданно и неприятно было видеть эти руки, сведенные острой судорогой страха и непереносимого душевного волнения. Пальцы крючились, шевелились, сжимались, снова быстро распрямлялись, тряслись истерической тонкой дрожью, и, чтобы как-то унять эту дрожь, Рамазанова подсознательно переплетала их, сцепляла в замок, быстро терла ладонь о ладонь. И вот эта отдельная от нее, суетливая жизнь насмерть перепуганных рук заставляла меня думать о том, что Рамазанова говорит далеко не все.
Я подошел к столу, заглянул через плечо Гнездилова в протокол, похмыкал, вырвал из блокнота лист бумаги и написал на нем: «Умар Рамазанов, коммерческий дир-р промкомбината об-ва „Рыболов-спортсмен“». Потом отозвал к двери молоденького участкового, протянул ему лист и шепнул:
– Позвони в УБХСС капитану Савостьянову. Спроси: так ли зовут его клиента, который подался в бега?
– Слушаюсь.
Участковый вышел, а я вернулся на свой стул в угол комнаты.
– Как они объяснили вам причину обыска? – спрашивал Гнездилов. – Ну почему, мол, обыск у вас надо сделать?
Рванулись, замерли, прыгнули и снова сцепились пальцы.
– Ничего они не объяснили, – сказала медленно Рамазанова. – Просто объявили, что есть санкция прокурора на обыск, и показали бумагу с печатью.
– Но ведь в бумаге должно быть написано, зачем и на каком основании производится обыск?
Рамазанова пожала плечами:
– Я очень испугалась. У меня все перед глазами прыгало, я ничего не понимала.
– Рашида Аббасовна, сядьте, пожалуйста, вот сюда, поближе, – сказал я. – Мне надо задать вам несколько вопросов.
Рамазанова горячо, толчком мазнула меня по лицу взглядом быстрых синих глаз, подошла ближе, оперлась коленом о стул, не села.
– Жгут! – кричу я.
Впилась коричневая змея жгута выше надреза, стянула сосуды, я промокнул корпией раны и полоснул ланцетом по мышце.
– Следите внимательно за моими действиями, – говорю я помощникам. – Я мог бы оставить ему колено, удалив конечность по суставу на сгибе. Но черные ростки гнойного воспаления, с которыми мы не можем бороться, уже потянулись вверх по ноге. Решим, как полководец в сражении: лучше потерять часть, чем лишиться всего войска…
Ужасным, разрывающим душу, нечеловеческим криком исходит привязанный к столу юноша. Одному из драгун, державших лучины, стало плохо, и он со стоном падает на пол. Рассыпалась лучина, и угольки, закатываясь в лужи стекающей со стола крови, гаснут с пронзительным шипением.
– Уберите его отсюда вон! – кричу я. – Еще огня! Дайте несколько факелов…
Драгуна сразу же оттащили в сторону, вспыхнул огонь, с новой силой пронзительным визгом зашелся раненый. Из раны показалась сахарно-белая берцовая кость.
– Пилу! – командую я. – Стакан водки!
Помощник подносит мне стакан к губам.
– Да не мне! Больному!..
Соренсен пьет, захлебываясь, потом его рвет, и он на мгновение стихает.
С посвистом и тонким хрустом врезается пила в кость, и сразу же снова диким воплем заходится несчастный. Левой рукой я хватаю ланцет и пересекаю сухожилия – нога отделилась от туловища.
Лекарский помощник берет ее осторожно, кончиками пальцев, и бережно, будто опасаясь причинить ей боль, кладет в таз.
С внешней стороны бедра я оставил длинный лоскут кожи и кусок мышцы – сейчас я загибаю этот кусок конвертом на остаток ноги, закрыв им рану на культе.
– Иглу! – Золотая иголка с шелковой ниткой проворно бегает в моих руках, закрывая ровным швом разрез. Я наклоняюсь к Соренсену: – Успокойся, дружок, потерпи еще чуть-чуть, через пять минут все будет кончено…
Но юный рыцарь ничего не отвечает, впав от боли и потери крови в беспамятство.
На стол укладывают рейтара с выбитым глазом и разорванным до уха ртом. Я стою у окна с кружкой подогретого вина, гляжу на серую вспененную воду залива, холодный дождь, заливающий темную булыжную мостовую, черные дымы пожарищ, стелющиеся над крышами разграбленного и разоренного города, красные пятна костров на площадях, слышу крики и ругань пьяной солдатни, ржание напуганных лошадей, тонкий плач брошенного ребенка, заливистые крики маркитантов, и в сердце моем оседает тоска.
Я думаю о том, что занимаюсь не своим делом, что будущее медицины никак не связано с этим варварским, мучительным членосечением. Как объяснить всем, что будущее – в понимании человеческого организма и открытии новых лекарств, которые смогут регулировать течение болезни? Ведь Гиппократ был безусловно не прав, полагая, что организм сам и есть себе целитель. Природные лекарства – растения, которые с успехом применяются, – опровергают это. Значит, можно воздействовать на болезнь и искусственными веществами, как это делают алхимики. Надо лучше узнать и понять природу химических превращений. Но нет времени и нет денег. Надо ехать в Марку – Великие нидерландские штаты…
Подходит лекарский помощник:
– Господин доктор, раненый на столе.
– Иду, иду…
Глава 7
«У меня миленок лысый…»
Зазвонил телефон, и, еще не поднеся трубку к уху, я услышал густой, мазутный голос.
– Тихонов? Дежурный по управлению Суханов. Вчера около двадцати часов два афериста залепили самочинку, – гудело в трубке. Я подумал, что голоса человеческие имеют цвет. У дежурного голос был темно-коричневый. – Генерал почему-то приказал сообщить тебе об этих аферистах. Мол, ты сам знаешь почему, – говорил Суханов. – Я даже удивился: ты же мошенниками не занимаешься?
– Нет, не занимаюсь, – сказал я. – Вообще-то, не занимаюсь.
– Ну, тогда не знаю, – ответил Суханов. – Вам виднее.
– Ага. Ты мне адрес продиктуй.
– Чей? Потерпевшей?
– Ну зачем же… Твой, домашний, – мирно сказал я и подумал, что здесь тоже потерпевшая; не потерпевший, а потерпевшая. Потерпевшая Пачкалина и потерпевшая… – Как ее фамилия?
– Шутишь все, – осудил меня Суханов. – Записывай: Рамазанова Рашида Аббасовна, Щипков переулок, дом двенадцать, квартира сорок шесть. Туда опергруппа уже выехала. Генерал велел послать за тобой машину.
– Очень трогательно.
– Ты в управление потом приедешь?
– Не знаю пока.
– Будь здоров. Машину долго не держи.
Допрашивал инспектор из 4-го отдела МУРа Гнездилов, допрашивал толково и быстро. Я сидел в углу на стуле, повернутом задом наперед, облокотившись на спинку и уперев подбородок в ладони, внимательно слушал, разглядывал комнату, потерпевшую, двоих детей на диване и думал о том, как беда, войдя в человеческий дом, сразу делает похожими самые разные человеческие жилища – богатые и бедные, красивые и безвкусные. Прекрасные, любовно украшенные квартиры и запущенные воровские хазы после обыска имеют так много общего! Распахнулись пухлые животы шкафов, вывалив свои внутренности на пол, на кровати и стулья, везде валяются какие-то бумажки, выдвинуты ящики, разворошено белье, скинуты с полок книги, приподняты половицы и надрезаны обои. Но самое главное, видимо, в той едкой атмосфере испуга, слезливой возбужденности, стыда, боли, умирающей надежды, беспощадной оголенности под взглядами чужих людей.
Квартира Рамазановой была хорошо обставлена, со вкусом украшена, и все в ней было сейчас разбросано, перемешано, царили разор и хаос. Около трельяжа на низеньком пуфе лежал расчесанный и завитой шиньон, и этот треклятый шиньон все время отвлекал меня, расслаблял внимание, потому что с того места, где я сидел, был он сильно похож на отрубленную голову, и эта аккуратная прическа отрубленной головы не давала мне покоя. И два мальчика – десяти и пяти лет – испуганно смотрели на меня с дивана. А сама Рамазанова держалась хорошо. Молодая стройная женщина с быстрыми синими глазами. Только золотых зубов у нее было многовато – казалось, что она вырвала здоровые зубы и вставила себе два полных золотых протеза.
– Нет, кроме ста двадцати рублей и моего кольца, они ничего не забрали, – быстро повторяла она, и так она все время напирала на то, что взять больше было нечего, будто боялась: не поймут люди безысходной бедности и сирости ее. А так-то держалась она спокойно, уверенно, вот только о пальцах своих совсем забыла, и я все время внимательно наблюдал за ними. Руки у нее были красивые, ухоженные, нежные, и так неожиданно и неприятно было видеть эти руки, сведенные острой судорогой страха и непереносимого душевного волнения. Пальцы крючились, шевелились, сжимались, снова быстро распрямлялись, тряслись истерической тонкой дрожью, и, чтобы как-то унять эту дрожь, Рамазанова подсознательно переплетала их, сцепляла в замок, быстро терла ладонь о ладонь. И вот эта отдельная от нее, суетливая жизнь насмерть перепуганных рук заставляла меня думать о том, что Рамазанова говорит далеко не все.
Я подошел к столу, заглянул через плечо Гнездилова в протокол, похмыкал, вырвал из блокнота лист бумаги и написал на нем: «Умар Рамазанов, коммерческий дир-р промкомбината об-ва „Рыболов-спортсмен“». Потом отозвал к двери молоденького участкового, протянул ему лист и шепнул:
– Позвони в УБХСС капитану Савостьянову. Спроси: так ли зовут его клиента, который подался в бега?
– Слушаюсь.
Участковый вышел, а я вернулся на свой стул в угол комнаты.
– Как они объяснили вам причину обыска? – спрашивал Гнездилов. – Ну почему, мол, обыск у вас надо сделать?
Рванулись, замерли, прыгнули и снова сцепились пальцы.
– Ничего они не объяснили, – сказала медленно Рамазанова. – Просто объявили, что есть санкция прокурора на обыск, и показали бумагу с печатью.
– Но ведь в бумаге должно быть написано, зачем и на каком основании производится обыск?
Рамазанова пожала плечами:
– Я очень испугалась. У меня все перед глазами прыгало, я ничего не понимала.
– Рашида Аббасовна, сядьте, пожалуйста, вот сюда, поближе, – сказал я. – Мне надо задать вам несколько вопросов.
Рамазанова горячо, толчком мазнула меня по лицу взглядом быстрых синих глаз, подошла ближе, оперлась коленом о стул, не села.