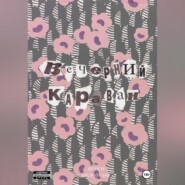По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последняя исповедь Орфея
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кедо вынес стулья, мы уселись и начали молча смотреть на вид, открывающийся с лоджии. Все, что здесь было – это гаражный кооператив из серого кирпича, позади которого виднелись размытые дымовые трубы ТЭЦ, протыкающие грязную небесную гладь. Приметить отдельные детали не представлялось возможным, все было примерно одной цветовой палитры, из-за чего разные сооружения сливались друг с другом, создавая доколе невиданные конструкции, смысл и функции которых останутся тайной для каждого, кому удалось их увидеть и оставить в своей памяти.
Кедо начал нервно постукивать по стакану – сигнал о том, что он хочет сообщить мне что-то важное для него. Но из-за своей тактичности он вынужден привлекать внимание подобными намеками, оставаясь в ожидании первого слова собеседника, которое служит для него приглашением к началу диалога.
– Ты что-то хочешь мне сказать? – без лишних предисловий начал я. – если да, то я во внимании.
– Я? – делая вид, что инсинуаций последних минут не было, удивленно произнес Кедо. – ну, у меня есть новость. Для меня важная.
Сделав знак рукой «продолжай», я принялся за вермут.
– В общем, мы с Геллой не так, чтобы прям давно вместе…
– А сколько? – отлипнув от стакана спросил я. Мне действительно было интересно узнать точную цифру для того, чтобы немного нормализовать рассинхронизацию своего внутреннего времени со временем действительным.
– Около двух с половиной лет. В общем, не знаю, может быть тебе покажется это безрассудным, но я принял решение сделать ей предложение в новогоднюю ночь. У меня есть еще полгода для полновесного обдумывания своего решения, но не думаю, что что-то изменится.
Он посмотрел на меня в ожидании реакции. Был ли я удивлен? Нет, как только Кедо начал свой монолог с предельно клишированного вступления, для меня уже все стало ясным. Да и решение это крутилось в воздухе в течении последнего года. Из-за этого мое лицо было абсолютно безэмоциональным и отрешенным.
– Поздравляю.
Кедо немного нахмурился, но в глазах появился лукавый блеск. Значит, это не было его тузом в рукаве, что-то напоследок он все же притаил. Осушив стакан одним глотком, он вытер рот рукавом футболки и счастливым тоном пятилетнего ребенка выпалил:
– Я подумал и решил, что хочу видеть тебя свидетелем на своей свадьбе. – он посмотрел на меня испытывающим взглядом, ожидая эффекта взорвавшейся бомбы.
Эффекта не последовало. Я сухо ответил согласием и продолжил просмотр панорамы. Спустя какое-то время я все же решил, что не стоит своей черствостью портить человеку важный момент и похлопав его по плечу добавил. – Для меня это честь, друг, просто встал не с той ноги.
В этот момент Кедо расцвел и со стороны походил на блаженного, которому дали в руки безделушку, что займет его на ближайшие месяцы. Сияние его зубов, открывшихся мне благодаря широкой улыбке, было настолько ослепительным, что мне пришлось прикрыться ладонью. Когда его экстаз прошел, а состояние слегка пришло в норму, он молча подлил вермута нам в стаканы, выдохнул и подобрал близ лежащий журнал, оставленный Геллой.
Глядя на свое едва различимое отражение в окне, мыслями я уносился все дальше в прошлое, что никогда на моей памяти не заканчивалось чем-то хорошим.
– Забавно, что пару лет назад я был настолько же близок к схожему шагу с Ви.
Кедо оторвал глаза от журнала и немного растерянно начал попытки поддержать меня, напоминая сотрудника телефона доверия. – Друг, это же жизнь, кто знает, что будет завтра. У тебя все еще будет хорошо, ты главное не давай подобным мыслям своей головой завладеть, а то снова выбираться придется из того мрака, в который ты себя загнал когда-то.
Я промочил горло, повернулся к Кедо и впервые за этот день ответил с живостью, достойной образцового сангвиника. – Просто мысли вслух, друг, ничего более.
Часть II
I
Мои веки плотно сжаты, пальцами давлю на виски, ощущая вздутые вены. Тишина оглушает, из-за чего в голове появляется вибрирующий высокочастотный звон, знакомый тем, кто сталкивался с контузией. Медленно открываю глаза и осторожно осматриваюсь. Я сижу на широком пне, окруженный густой чащей леса, сквозь которую едва пробиваются солнечные лучи. Вижу неясный силуэт вдалеке, витающий над землей возле одного искривленного ствола, раскинувшего волнообразные ветви с изумрудной листвой. Встаю и отряхиваю свое одеяние от засохшей земли и древесных щепок, снимаю с себя нескольких обитателей этого глухонемого королевства, в лице нескольких тутовых шелкопрядов. Может это они сшили мою накидку, пока я находился здесь в бессознательном состоянии? Замечаю возле пня многочисленные осколки былого зеркала. Тот малый свет, что просачивается сюда, переливается серебром на них. Подбираю с травы самый большой кусок, на котором с краю присутствует фрагмент рамы. Судя по нему, вещь была ручной работы. Аккуратно держа, осматриваю свое лицо. Знакомые черты, но полной уверенности в том, что я вижу самого себя у меня не возникает. Продолжаю разглядывать себя, одной рукой ощупываю накидку, надетую поверх белой футболки. Это полупрозрачный плащ черного цвета, закрепленный между ключицами v-образной брошью. По ощущениям созданный из шелкового муслина, он струился по спине воздушными складками. Подол спадал на землю, из-за чего я походил на Смерть, над стилем которой поработала Коко Шанель.
Подул легкий ветер в лицо, шлейф плаща взлетел, начав позади меня вырисовывать волнистые узоры. Тишину прорезал звук колышущейся листвы. Я снова обратил внимание на силуэт, который за компанию с зеленью деревьев, пришел в движение. Осторожно ступая, я пошел в его сторону. Подходя ближе, я увидел, что дерево происходит из рода тополей, из-за чего в моей голове возникла мысль, что передо мной явилась Левка. При приближении к цели начали вырисовываться очертания – руки у этого существа были плотно прижаты к туловищу, на голову был водружен лавровый венок. Сама голова находилась под неестественным углом, и через пару шагов я увидел узел на шее – веревка вела от висельника к одной из ветвей. глаза его были открыты, казалось, что он молча наблюдает за мной. Изначальное предположение, что я нахожусь в Элизии сменилось более приземленным подозрением, что каким-то образом я очутился в Аокигахару. Осматривая венок, я подошел к несчастному совсем вплотную, отвращения он во мне не вызывал. Моя нога запнулась о какой-то предмет, издавший мелодичный звук и заставивший обратить на себя внимания. Это была мандолина бежевого цвета, на корпусе которой мелким шрифтом были выгравированы стихи. Взяв ее в руки и немного отойдя в сторону, я попытался разобрать написанное, но давалось мне это с большим трудом. Некоторые строки, все же поддававшиеся моим усилиям, были мне знакомы. Да и сам инструмент вызывал во мне смутное ощущение того, что когда-то я уже встречался с ним в своей жизни, притом ни один раз.
Держа в руках мандолину, я посмотрел на свисающего мученика. Все было прежним, кроме одной детали – его зрачки были по-прежнему направлены прямо на меня, хотя я и сменил свое местоположение. От этого по моей спине пробежал холодок, а сердце перешло в ритм бибопа. Выронив инструмент, я с силой сжал в кулак осколок зеркала, который все еще находился в моей руке, подбежал к усопшему и вонзил его ему в грудь. Сначала мне показалось, что из свежей раны покойника начала сочиться кровь, но затем до меня дошло, что красные капли, стекающие по его торсу, принадлежали моей изрезанной ладони. Не обращая внимания на боль, я все также держал свое оружие в руке, в ожидании ответной реакции мертвого. Ее не последовало, он был все также смиренен. Мой взгляд перешел с раны на лицо, и я впервые с нашей встречи отчетливо разглядел его в деталях, от чего мной завладел иррациональный страх, с которым встречались большинство героев Лавкрафтовских рассказов. Это был я – мой нос с родинкой на правой стороне ноздри, мои губы, овал лица, глаза, уши, еще не успевшие стать глубокими лобные морщины. Вдвойне нагоняло ужаса то, что я не признал самого себя в зеркальном отражение. Раскрыв кулак, стараюсь рассмотреть себя в осколке снова, но оно полностью залито кровью, а попытки оттереть его от красной субстанции не дают хотя бы малейшего результата.
Упав на колени, прижимаюсь лбом к свежей почве, от которой исходит слабый аромат петрикора. Скрещиваю пальцы за затылком, ощущаю тепло от правой ладони, которая липнет к волосам как смола древесных почек. Силюсь вспомнить, кто я, как и для чего здесь оказался. Бесполезно. В голове туман, не единой мысли, лишь образ меня в роли одинокого висельника, покорно висящем на тополе.
Вновь образовавшиеся затишье прерывает птичье пение. Отрываю голову от земли в надежде увидеть еще одно живое существо. На плечо висельника села небольшая черная птица, насвистывающая короткие мелодии с продолжительными паузами. Раньше я видел ее лишь на иллюстрациях, это был чешуегорлый мохо. Продолжая свои короткие песенные зарисовки, птица на пару с повешенным взирают на меня сверху вниз, будто ожидая от меня действия. Мне ничего не остается, как только встать и молча наблюдать за происходящим. Мохо выдает последнюю мелодию, после чего перелетает с плеча усопшего на оброненную мной раннее мандолину, начиная аккуратно щипать струны. Музыка знакомая; знакомая настолько, что я знаю ее наизусть, и, если певчая птица внезапно прекратит свое выступление, я смогу напеть несыгранное до последней ноты.
Отыграв всю композицию, птица снова поднялась в воздух, на этот раз объектом ее интереса стало уже мое левое плечо. Аккуратно приземлившись, она начала с увлечением наблюдать по сторонам.
Поправив плащ, я подошел к музыкальному инструменту, видимо, принадлежащему моему покойному близнецу. Подобрав его, я наиграл ту же мелодию, что и мой случайный спутник, который удерживался на худощавом плече цепкими пальцами. Начав ходить по кругу и наигрывая мелодии, известные мне на уровне мышечной памяти, я заметил тропу в чаще, скрытую массивными стволами деревьев, которые наподобие привратников у врат средневекового дворца скрывали выход от чрезмерно любопытствующих глаз. Вскрыв этот тайник, я, попытался пролезть между двумя красными дубами, измазывая их кору кровавыми разводами, от чего она сливалась с их же листвой. Когда мне это удалось, передо мной открылась широкая дорога, с обеих сторон огороженная готическими заборами, за которыми стройными рядами шли высокие сосны, слегка покачивающиеся от еле заметного дуновения ветра, которое, впрочем, не доходило до тропы, оставляя ее предельно стерильной от любого воздействия извне.
Я не знаю, сколько длился мой путь. Могло показаться, что я лишь делаю вид, что иду, на самом деле маршируя на месте, ведь пейзаж вокруг был статичен на протяжении всего моего маршрута, но временами оборачиваясь, я видел тонкую темно-красную линию, автором которой являлась моя, не прекращающая кровоточить, ладонь. С каждым разом она становилась все протяжённее, и в какой-то момент, когда я решил вновь оглянуться, точка отсчета пути, – первая капля крови на грунте, стала недоступной моему взору.
Бесконечный коридор под открытым небом, у меня появилось опасение, что я очутился в Дантевском аду, в котором он лично для меня прописал отдельный круг. Мои ноги тяжелели, наливаясь свинцом и дубовея. Из последних сил я сошел с центра дороги, присел на землю, ощущая мелкие камни под собой, и оперся затылком о прохладный забор. Мохо спрыгнул с моего плеча и, просунув голову между прутьями забора, начал трапезу, состоящую из маленьких жучков, которыми кишела почва под соснами. Остудив голову, мои мысли стряхнули с себя желтоватую мглу, став отчетливее и яснее. Мандолина, находившаяся в моей руке, была полностью залита кровью, сменив свой бежевый окрас на алый, – оттенок цветов японской камелии. Выгравированные строки стали разборчивее, теперь я мог прочитать стихи полностью.
Я помню тот лик, освященный луною,
Когда-то дававший мне счастье,
Я помню святую святых, овладевшую мною
Силой пугающей власти.
Я помню слова, что ручьем,
Изливали мне песнь про душевные муки.
Я помню прикосновения, что любя,
Отдавали мне исполненные нежностью руки.
Я помню; когда ты спала,
Уходя от страданий к Морфею.
Как ты была мила,
Эвридика, подаренная на время Орфею…
Слова были знакомы, я мог поклясться, что читал это раннее. Более того, при изучении текста, во мне появлялось ощущение, что его автором являлся я из прошлого. Почему это ощущение имело болезненно-мучительный характер, мне все также оставалось непонятным.
Птица завела песню откуда-то слева от меня, и, повернувшись в сторону звукового источника, я обнаружил, что она сидит на ручке белой деревянной двери, находившейся в каких-то пяти-семи метрах от меня. Откуда она здесь и почему я не заметил ее раньше? Я старался не задавать себе слишком вопросов, которые ежеминутно возникали в моей голове, ведь ответов не предвиделось.
Дверь была немного скошенной, по форме ближе к параллелограмму, нежели к привычному прямоугольнику. Краска потрескалась и облупилась, за ней виднелось черное дерево, будто измазанное углем, что вкупе с остатками немногочисленных белых мазков создавало слепящий контраст. На месте глазка был схематично и неаккуратно вырезан глаз, – будто пятилетнему ребенку дали в руки наточенный нож и оставили наедине со своей новой игрушкой. В ручке же не было ничего особенного: круглая, отливающая золотом; такие можно встретить в каждом втором здании по всему земному шару.
Подойдя к двери, Мохо пересел мне на кисть, а я попытался провернуть дверную ручку непривычной для себя левой рукой, так как в правой я держал свою музыкальную ношу. Заперто. Выругавшись, я со всей дури пнул дверь. Снова ноль реакции, но для себя я отметил, что несмотря на свой древне-ветхий внешний вид, кусок древесины даже не думал слетать с петель или проламываться вовнутрь. Будто кто-то мне неизвестный с другой стороны, облокотившись, удерживал дверь всем своим весом, боясь впустить меня в свои владения.
Мой крылатый спутник перепорхнул на кисть другой руки. Постепенно я приходил к мысли, что мохо – не совсем мой компаньон по несчастью, скорее проводник, подающий сигналы и указывающий верную дорогу. Из этого я уже вынес, что стоит попробовать повторить сие действие, сменив действующую руку. Переложив мандолину, я сжал дверную ручку раненой ладонью. По внутренней стороне кисти руки тут же пронесся электрический заряд, вызвавший спазмы по всему телу. Кровь начала сочиться, как и из старой раны, так и из-под ногтей. Спустя мгновение порезы начали появляться в области предплечья, с неистовой скоростью расширяя свой ареал вверх по руке. Затронув грудь, вскрытие плоти пошло по всему телу, во рту появился привкус железа. Птица начала чириканье, которое становилось все громче, постепенно с мелодичных напевов перерастая в похоронный крик ворона. В голове снова появился звон, с которого началось мое пребывание в этом месте. От боли на глазах навернулись слезы, перемешанные с густым красным соком – кровопускание, которому я подвергся, добралось и сюда. Еле стоя на ногах, зажмурив веки, я на последнем издыхании рывком дергаю ручку. Дверь поддалась.
* * *
Лежу на чем-то мягком и теплом, ощущаю игру солнца на своем лице, которое дает о себе знать даже сквозь прикрытые ресницы. Вспоминаю, что было со мной перед тем, как я провалился в небытие, от чего мои руки пускаются в лихорадочный пляс по всему телу. Боли нет, как и осязаемых ранений. Привстаю, опершись на локоть, тем самым сгоняя с себя остатки приятной дремоты. Все также облачен в плащ, на котором нет ни одного кровавого пятна. Руки тоже чистые, правая кисть с внутренней стороны испещрена лишь ладонными линиями, которые присутствовали на мне столько, сколько я себя помню. Быть может это было просто очередным наваждением?
Озираясь по сторонам, замечаю, что мое нынешнее место пребывания – это поле с бескрайними рядами немофил, сливающихся в единую спокойную океаническую гладь пастельно-голубого цвета. Схожую картину мне доводилось видеть на фотографиях Национального парка Хитачи, но здесь все куда масштабнее.
За мной оказывается злополучная дверь, стоящая в гордом одиночестве посреди цветов. На месте вырезанного глаза с этой стороны находится символ карет. Выполнен он куда аккуратнее, линии прямые и без небрежных засечек. Помня свой предыдущий опыт, не рискую подходить к ней слишком близко. Мандолина лежит под моими ногами, она по-прежнему алая, но теперь это не окрас, созданный моей жидкой соединительной тканью, а стандартное лакокрасочное покрытие. Поверх все также высечены строчки, но, приглядевшись, я понимаю, что это совершенно иные стихи.