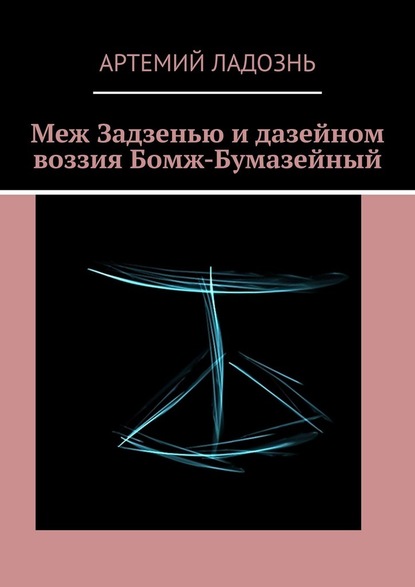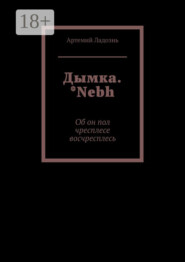По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Меж Задзенью и дазейном воззия Бомж-Бумазейный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Меж Задзенью и дазейном воззия Бомж-Бумазейный
Артемий Ладознь
Каждый, как с необходимой достаточностью следует из ткани повествования, окажется в этом нуль-состоянии Среды, как по силам многим не просто выбраться, вызволив из нее лучших, но совершить то и это, не иначе как изменив ее верностью себе. Сия Тайна объяснима в терминах Комплементарности и Коммутативности, связь коих в свою очередь соотносится с иными подобными представлениями Тайны. Попутно пытливый читатель узнает скрытую этимологию Руси и путь князя Владимира, в связи с дилеммой Преображения.
Меж Задзенью и дазейном воззия Бомж-Бумазейный
Артемий Ладознь
© Артемий Ладознь, 2020
ISBN 978-5-0051-2410-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Меж Задзенью и дазейном воззия Бомж-Бумазейный
Сергию Фуделю. Неведомому, узнанному.
Вместо предисловия
Жизнь, в отличие от дешевого и притянутого за уши «нарратива», едва ли мыслимо ваять скульптурно, попросту отщепляя излишнее ради «негативного пространства» либо описывать «уникурсально», одной последовательной линией. Приходится – мазками с возвратами, лавируя сквозь сценарии и пробираясь по вороху черновиков, словно перегнивающей палой листве во дворике, в котором суждено сойтись, схлестнуться судьбам мира.
Поведай, Аист: когда же стряслось все это с ним? (Напрашивается: да не молви «nevermore’!). Была ли столь острой необходимость, столь вопиющей – неизбежность ему, человеку выдающихся ранних достижений, отгастролировавши всеми корпоративными «столицами» (разумея престижнейшие инвесткомпании с тэгом Capital), угодить в… БОМЖедомку? А прежде – сдуться до литературно-научного негритянства. Которое, помимо рабского труда за четверть оплаты и отнюдь не безымянных и притом сумасбродных клиентов, полагавших, что мотивировали полной оплатой на «клиентскую всеправоту», даровало скорее иллюзию свободы творчества, независимости как таковой: примерно так же лолиты могли бы привести себе апологию. Причем аналогия тем глубже, что и затянувшееся бегание мужами гения – производства лучших смыслов яко детищ – сравним с затяжной же бездетностью жриц любви. Да первое и есть род проституирования: произвольно, по заказу клиентов понуждать вдохновение к оргастико-экстатическим творческим отправлениям – зачастую потугам впрямь успешным, в коих заведомой уверенности неймешь.
Пожалуй, поступали уже ранние «звоночки» к тому: то однокашники (из региона, которому предстояло быть разрушену) видели в нем нечто трагически недюжинное – из тех, что либо мгновенно вгору идут, либо тотчас уходят; а то цыганка, сама и притом бесплатно вызвавшаяся аугурить ему, тотчас заключила, что подчиненным ему не бывать. Ему, кто и впрямь дорожит свободой (в первую очередь – внутренней), но презирающему всякую манипуляцию, насилие над совестью, мягкое подталкивание (nudging: кажется, за освящение сего непотребства уже канонизируют по завещанию?) Ведь даже в общественно приветствуемом стремлении обзавестись множеством друзей или любовниц он усматривал наивную и плохо скрываемую жажду власти, в коей и себе-то признаться совестно.
Или, может, уместнее прежде рассмотреть деградацию среды, сопутствовавшую остыванию Страны (или оное обусловившая)? Ведь Страна жила от силы четверть века по борьбе; отказавшись же от борения, немедленно перешла к медленному остыванию: от ранних пламенных лет первой половины века – к «оттепели», затем «застою», наконец – к леденящему холоду танатико-хтонического эрона. От неравнодушия – к сластолюбию, приспособленчеству «доставания» и полезным знакомствам с людьми «нужными» и «деловыми», «умеющими жить» и «от жизни не отстающими». Стоит ли дивиться тому, что Страна уже готова была к последнему прыжку в полное самоотрицание, в просветление алчностью и нигилизм в адрес всех прошлых альтернатив. Страна, чьи жены вскоре охладели не только к горю другого и «чужим» же детям (все это ранее не бывало чуждым, откуда и внешне грубоватая бытовая бесцеремонность), но и к собственным, родственно обрюзгшим мужьям, взяв за обыкновение обзаводиться молодыми самцами «с хорошими генами», «для здоровья» во исполнение заповедей «возлюби себя» и «не дай себя использовать» (уклонение от коих составило новый кодекс смертных грехов); чья новоприобретенная эротичность куплена ценой отказа от прежних теплоты и душевности, а храмостояния на фоне их ускоренного возведения сопрягалась с мамоноугождением-яко-смирением; могла ли уже такая страна не перейти к выбрасыванию на помойку стареньких фото и детских игрушек в рамках тинейджерски безжалостного порывания с «совковым» прошлым?..
В Стране, где были как дети и, кажется, счастливы… В Едеме, где игра theo-the (i) n/-den вышла из-под контроля…
Пал ли Рим от гедонизма своего и растленной мерзости запустения, но во Христа облекшись? Видать, посчастливилось ему завоеванным быть ордами вечно ищущих Lebensraum, до жизни жадных германцев, имевших еще потенциал грешить и каяться, не растворившись в гипостоическом, пар (а) ориентальном безразличии. Похоти и страстишки мелкие еще не подменили желаний и стремлений – в отличие от крайностей вроде издыхающей Византии. Или Страны – на излете…
Возможно, падение героя началось с хитиножадных экспериментов над пчелами (убить, прежде чем укусит!) да тараканами – так, что возмездие не замедлило: кошмарные сны-галлюцинации наяву с пчелками невинными, которые явились словно на суд. Пресеклось же по «нелепой» случайности: нечаянно раздавил ящерку, отбил кусочек зуба сверстнику… Причинив боль и прочувствовав заочно, переменился в корне. Или, может, то добрые советские мультики да сказки русско-европейско-восточные, что привили любовь к животным? А те первые опыты, – как и просмотр срамных картинок, по наущению первоучителей, сверстников, – были изнанкой пытливого и взыскующего ума? А может, и того проще: щемящие воспоминания из раннего детства о несчастном льве, помещенном в клеть зоопарка внутри парка отдыха тогда еще имени Калинина, – льве, глядевшем столь обреченно, что напоминал скорее игрушечного, бумазейного. Но ведь и игрушки – все эти обильные подношения, любовно даримые родными в праздники и безжалостно извергаемые ими же вон при малейшей видимой утрате, перемене внимания чада, нимало не заботясь о травме, причиняемой отчуждением от друзей и бессилием что-либо поделать с этим безумным, бессмысленным, невинным проявлением губительного радения и рачения, – разве все они были менее настоящими, живыми, родными? Все хранит сердце детское, незамутненное сменой: связей, себя, Праздника…
Не суди, взыскательный читатель, ни нас, ни себя слишком строго за невозможность (да и отсутствие амбиций) восстановить имя или исчерпывающую внутреннюю конституцию нашего протагониста (мы настаиваем на знаке плюс – хотя бы по определению действия правила самодиагностирования среды в ее реакции на профиль испытуемого). Во-первых, терпеливый наблюдатель сам сможет достичь полноты выводов ускоренными темпами по мере изучения. Во-вторых, совокупность подлежащих раскрытию более общих и насущных пластов непреходящей важности столь же массивна, сколь и многообещающа в самой канве, так что сложность – в отличие от ценности – скорее иллюзорна. Итак, а не начнем ли наш «квест» (снисходя к «новоязвам» адаптации)?
Throughshifting
Он всегда охотно подавал милостыню – даже в период пионерского неверия (первым бомжикам на церковной паперти). В сущности, он ощущал безразличие к тому, что жертвования юбилейного рубля может стоить ему сытного завтрака, а то и дневного рациона развлечений в лагере. Как же паростки гуманизма сочетались с зачатками снобизма («мне нечего доказывать») и даже где-то циничного снисхождения к противоположностям (критика как футурологических утопий марксизма-ленинизма – слияние города с деревней, – так и стояния пионеров из воцерковленно-суеверных семей на праздники в храмах)? Видимо, все просто: зарождение сострадания, сочувствия и «вчувствования» представляло лишь аспект проницания природ, сопряженного равно с критическим и творящим мышлением (в ту пору перемен едва не успевшую выродиться «мышлением»).
Но бомжи в более поздние годы отчего-то все чаще отказывались принимать его подношения. Словно гнушались; так что он начал подозревать в себе нечто недоброе, задаваясь извечным вопросом, коему – подобно истинному (внегормональному, хотя бы в силу его видимой моложавости) – должно посетить всякого мужа взыскующаго: «Не я ли, Господи?!»
Успел побомжевать-поголодать как в бытность «обменным» студентом («Sir, are you preppin’ for your morning test or just bummin’ around, Sir? Anyway, why don’tcha just gitcha ass right outta here and move on, like home, «cuz see my shift’s kinda over?..»), так и по приезде («Вы такой умный, что хотите индивидуальный график, чтоб работать; или думаете, так просто – досдать пропущенный год за неделю?»). В последнем случае самое обидное было не то, что все остатки средств были выложены на неизменно дорогущие книги, но скорее – слечь с корью в уже не детском возрасте (а маме – помыкаться по ломбардам) пришлось аккурат накануне получения престижной работы финансовым менеджером. Как страна заразилась суетливо-неплатежным безденежьем казино-при-шапито, так он подцепил корь от однокашников из вновь прибывших «оттуда» же. Тогда же поперли его с военной кафедры, – коему отсутствию оснований к беснованию, как и необходимости в присяге бесным, купно с нахождением в алюмнальном списке среди оных же, ему еще предстоит возрадоваться спустя лет пятнадцать. Поистине, Промысла не перемудришь, Провидению не присоветуешь…
Лет осьми от роду имел неосторожность ознакомиться с «Сотней рассказов из русской истории», а посему – пусть крамола сия явно и не была прописана – довольно скоро осознал, что «народ» вовсе не всегда прав или самосвят (подобно математике в естественнонаучных употреблениях или «демокраси» – инуде). Право, коль скоро и гений-то нередко ошибается, то кольми паче – плебс, охлос, флешмоб нечестивых, возомнивших свои страстишки и похоти гласом богов. (Впрочем, в мире античном последние не слишком превосходили человеков, в силу или немощь чего оное тождество вполне выплясывалось).
Но в остальном он всегда был с народом, а критика его неизменно обрушивалась на узкоэкспертно-жреческую притязательность, имеющую (подобно идолу Эль-Демократийя и в отличие от унтер-офицерской вдовы) склонность к самопосрамлению. Простые нередко являют мудрость, ускользающую от тех, чей духовный взор давно атрофировался под тяжестью вспоможений и «костылей», за интуицию и опыт все чаще принимая привыкание и леность в различении и сличении. Разумеется, неприятным открытием станет для него известная материализация философского суждения одного мудреца из богадельни, склонного рассматривать толпу как «стадо баранов, нуждающегося в пастыре» – что и демонстрирует век сей, когда сковороды и прочий интернет вещей поумнели настолько, что компенсировали хиреющий разум, в досадном контрасте с футуристическими и даже антиутопичными прогнозами той далекой поры, когда все мы были «ближе к будущему» и когда потомки грезились полубогами столь совершенными, что дефицит человечности проявлялся бы в излишнем уклонении от пороков и страстей. О, знать бы тогда, что сии последние выродятся настолько, что вознесены будут в ранг достоинств, когда зло не только требует терпимости и смиренного снисхождения, но тщится слыть исключительно достопоклоняемым. Я-де урод, посему уважьте меня!
Да, немало было ценных и колоритных «экспонатов» в том богоугодном (а злым языкам показалось бы – богозабытом) философском доме. Пожалуй, что – философском пароходе, ковчеге отчуждения, или «идиотизма», – воли быть собой и не квакать в такт клубу. А кому мнится пропасть меж двумя пароходами, так дерзнем вспомнить, что и от оного пресловутого прославились или хоть «прогремели», мягко говоря, не все. Пожалуй, никто за редким исключением вроде Сорокина… Или, возможно, поспешит читатель провести более разительный контраст, своего рода линию Маннергейма меж двумя непримиримыми лагерями: неформальных кухонных мудрецов, так ничем и не утвердившимися – и кастами «профессиональных мыслителей с девяти до пяти», чей нехитрый вклад вроде доказательства единственной теоремки по следам ранее проторенным заработали им чины и ранги…
Как ни готов бывал поспешить на помощь, с ним нередко приключалось тяжкое испытание: всякий раз посреди вящего безденежья ему попадались несчастные просители. Помимо явного знакомства с психологией (иначе как бы прочли на челе его отзывчивое «лопушество»), их трогательное и доверчивое бесстыдство и впрямь нередко выдавало острую нужду, внезапное озлобление среды и наглую предгибель. Подобное, по слову среднего и околокритического Хайяма, «издевательство неба» было совершенно невыносимо сердцу взыскующему, неравнодушно-неупокоенному и не утучненному нирваническим бесстрастием либо дебело-одеревенелой сломленностью. За что – к чему подобное унижение без греха? Наглый суд в виде наглых же (видимо «напраздных») страданий других, подобный внезапной смерти?
А на всякое неравнодушное сердце, ищущее откликнуться и помочь помимо собственной самодостаточности, всегда найдутся радетели-доброхоты с целебной бейсбольной битой. Одни от сего расколотого лагеря и разделившегося дома – назовем их де-факто неверными циниками – известны склонностью отыскивать патологию во всяких отправлениях творческого или любящего сердца, и не преминут детектировать самолюбование либо тщеславие, а то и выгоду во всяком желании оказаться полезным да послужить нуждающимся. Их внешние противники из самозваных учителей церкви – отчего не величать таковых де-юре верующими? – так вот, сии, в ответ на омрачающую жизнь дополнительную боль неведения смысла в избыточных страданиях любимых или просто «ближних» (чей ареал взаиморелевантен твоему), неизменно нарекут мотивы гордыней пополам с отчаяньем (пусть и споря в нюансах некореллирования сих двух с тщеславием), соделав несчастного повинным погибели и Суда в меру отягощенности сразу несколькими смертными грехами (технически – страстьми, пусть и без похотей, как и вне нарушения буквы апофатических заповедей).
Сродни и вдогонку тому, как доставалось от него докам над доками, так перепадало на орехи и учениям над учениями. Не только заезженным «дерьмокраси» и «постмодерьми» (равно не терпящим ровно того, что постулируют и воспевают), но и ана- и эпибуддизмам, склонным вопреки собственным блужданиям, снисходительно похлопывать «меньших братьев» по плечу.
Наметим еще пару мазков по обозначенным магистралям судьбы и кармического профайлинга (сколь нелепы в своей лжетворческой притязательности все эти portmanteau и coinages, не так ли?) Далеко не эпизодичными были случаи кражи последних денег либо еды у него – в том числе и в зарубежных студгородках. Стоически и эпикурейски вздыхая, понимал, что несчастным да обездоленным, видимо, нужнее оказалось – особенно на фоне внешнего благополучия среды, когда страдалец словно понуждаем еще и приносить извинения за неловкость лицезрения своих невзгод, а весте и собственную неустроенность, будто бы лжесвидетельницей выступающую против нравов и ценностей оптимистичного света.
Не оттого ли и он тогда же, в бытность бедным спудеем или магистрантом, с относительной легкостью решал вопрос нависшей голодной смерти, заимствуя у соседей перемерзшую картошку, а при длительном их отсутствии – и утку, давно залежавшуюся в морозилке до состояния «синей птицы». Он не знал, как разрешить сей простой и приземленный режим дилеммы «быть – иль не быть» законными, внешне одобряемыми средствами, а в отсутствие таковых, опять же, видел себя едва ли не клеветником на благость Промысла и любовную мудрость Создателя. Это было начало его Черной Книги, зиявшей подспудно, а временами – даже при внешнем благополучии, словно активируя вновь горние потребности «как по Маслоу».
Впрочем, таковые никогда и не дремали и не приглушались, так как творческий поиск, неотделимый от критического мышления, был для него воздухом. «Попасть» на армию, тюрьму, суму или желтый дом ему было страшно лишь в этой связи: с утратой времени-средств продолжать поиск. Разумеется, с этаким отношением к строгости века сего и злобе дня было очевидно, что ждет его «дорога дальняя» да тот или иной «казенный дом»: не тюрьма, так богадельня, – как ждала всех нежно-бумазейных да неустроенных с начала тепловой смерти Страны, которой было предложено скукожиться до казино да дома свиданий, в уповании на «невидимую руку», чья всенепогрешимая воля (движимая алчной рациональностью) имела все рассудить, распределить и разместить. Явственно проступала назревшая необходимость «смиренно измениться самому», не чая перемен миру и веку сему. Причем сулила ему ровно та «ресоциализация», коей он не подлежал по собственному определению ценного: того, что не сводится к производству пустот, в несметных объемах потребляемых обществом успешных транзиционеров.
Впрочем, «явно» это было, как и водится в канонах «заднечисленного программирования», ровно тем «гуру» и пророкам, что, не упредив ни единого кризиса и яро отрицая самое возможность таковых, капитализировали собственное достохвальное невежество не только в звонкий биткойн, но и «репутационно». «Я всегда прав», даже когда «мы порой ошибались». Ясное дело, из тех, кто и впрямь все провидели и возвещали, были отстранены от кафедр и графинов яко неблагонадежные и не вполне лояльные не только ценностям и символу веры Клуба, но и возделыванию воздухов и возгонке perceived value оных. Не сказать, что и в «ревущие» 90е сии трюкачи от науки фигурировали среди печальноизвестных теней профессоров со свалок: своевременно будучи прикормлены от Шороха, как и от малоуспевающих студентов, обучали сему искусству выживания собственным примером – уже молодых да ранних – в рамках модулей learning by doing. Их LBDинальная песнь все еще не прозвучала – даже теперь, зря тепловую смерть Клуба и века от собственного эффективно-адаптивного коварства да алчной близорукости.
Вот как выглядели профессиональные споры с верными последователя («дисциплами» да «фолоуерами») оных гуру, точившиеся все больше вокруг применяемой методологии. Всякие его поползновения к осмыслению, пересмотру, восполнению или осторожному внедрению альтернатив напарывались на клубно-холопский снобизм, верноподданнический нигилизм в отношении альтернатив.
– Это какой-то «погром по Фадееву»! Не лезь со своим SWOT-взвешиванием: вполне достаточно простых multiples. We ain’t no rocket scientists. – Последний категорический императив интернационала клубных прихлебателей звучал традиционно горделиво, так словно кичение неведением или интеллектуальной стерильностью есть sine qua non допуска, фейс-контроль пополам с public & private key that’s downright unhackable. – Мы практики, и будь добр применяй то, что можно сравнивать с кропаньем прочих «серьезных» контор.
– Практики вы мои, на всю дыню серьезные! Не вы ли, значительно воздевая перст, проморгали все кризисы, шельмуя всякого инакозрящего как кандидата на остракирование от Клуба? Джентльмены с серьезными и профессиональными лицами, – не вы ли отказываетесь понять, что все эти ваши multiples могут не проканать не только вне выборки (out of sample), но и для разных рынков и индустриальных профилей. Избыточно разбросанные внутри-категорий могут сойтись по средним-вне; но индивидуально оцениваемые не сойдутся, не стабилизируются! А более продуманные инструменты (пусть и не всегда – более сложные) – не профессора ли да «яйцеголовые» теоретики ввели в оборот прежде чем роторы-«шестерки», торгующие производными пустотами и пирамидные каменщики подхватили как последнее слово практики?
Его мнение уважали, присутствие и помощь – ценили; но побаивались, что подведет своей инициативностью да ересью методологической под «погром по Фадееву». Таких и за бугром боссы величают не иначе как «головная боль». «Or does he really believe I dunno my job as a higher-up? I’m the umpire in the end, and I want it done just the freakin’ exact same way our customers do!»
Впрочем, понимал он и то, что винить придется далее, брать – выше: не в полном ли согласии с «научным методом» действует общество, рассматривающее гений либо как делинквентность и род девиантности (подлежащей игнорированию или исправлению), либо как невозможное и неинтересное явление в меру малости априорной вероятности или апостериорной частоты. Даже в эпоху «чернолебедности», когда скрытые ужасы (или важность масштабного маловероятного) подхвачено и беатифицировано ровно теми, что осмеивал сие отклонение от канона прежде, гений рассматривается как угроза – Клубу и миру – тем самым подлежа реинтеграционно-инклюзивной терапии. Разумеется, кроме случаев реканонизации (учение Талибат – не худший тому пример), впрочем, постигающей вместимый (не высший) гений.
Внешность его составляла несколько непростое впечатление, во всяком случае теперь, ввиду отсутствия достоверных записей (затрудняющего оценку баланса моложавости и дурнения), как и доброжелательных свидетелей из современников. Впрочем, в меру дефицита убедительных доказательств в пользу его предполагаемого нынешнего статуса (который даже навскидку в высшей степени гадателен), со временем может претерпеть изменения и натуральный портрет, а не только образ или восприятие оного.
Порой его самого не покидало ощущения острой симпатии со стороны противоположного пола, усиливавшееся по мере приступов нарциссизма – во многом, подобно биполярному расстройству, чередовавшихся с самобичеванием и убийственным, показательно русским, прекраснодушием в адрес коварства и злонамеренности (мол, будь верен и к смерти). Впрочем, не до меры, отличающей бесноватых от активистов, коих чаша миновала его. Одни считали его слишком сексапильным для мужчины, другие (в основном на Западе) подобными откликами со знаком «плюс» крепили его самомнение. Он то забавлялся властью «манкости», то раздражен был ею – особенно если подвержены ей были непрошенные гости в лице собратьев по полу или же дети, – но никогда не злоупотреблял. Подобно сему, обладая недюжинными коммуникативными навыками (conversation «скиллзами», как выражались креолизированные HR и корфин-менеджеры), нечасто ощущал потребность их применить. И откуда только что бралось у этого заочника, которому все или почти все удавалось с первого же наскоку (как о себе знал с окончания школы): что новые дисциплины, что – произвести впечатление на первую в жизни женщину!
Попробуем рационализировать все это несколько схематично да стилизованно. Кажется, с его же слов, был он абсолютным интровертом ex ante (поглощенным производительным созерцанием, требующим в первую голову внутренних ресурсов) – и совершенным экстравертом ex post, в процессе, по мере соприкосновения с конкретными аудиториями постоянных жизненных и духовных спутников, как и транзитно-случайных попутчиков. Первые – столь же в ведении души, сколь неисповедимо соприкосновение с последними. Себе же сей безобидный и рефлексирующий нарцисс нравился «временами и ракурсами». А раз так, то и не считал свою притягательность показателем объективно гармоничной внешности. Тем паче, что за неимением трюмо (но вполне воспроизводя оное в рамках своего первого школьного открытия о числе отражаемых мнимых зеркал как изображений высших порядков в зависимости от угла отражения меж двумя зеркалами) – так вот, за неимением такового, не судил о прочих, недоступных ракурсах и режимах освещения, яко о ни важности неимущих, ни by truth-value не характеризующихся.
Как видно, и внутренний его портрет, еще более путаный, тем легче и разрешим. Порицая, отрицал как излишнюю парадоксальность (читай: неразличение аспектов), так и мнимый диалектизм (не питая особого пиетета ни к Гегелю, ни к Марксу, ни к Лао-цзы, а вместе воздавая всем им должное и не терпя хищения их славы) – в том числе в восприятии другими себя. Отнюдь не стыдясь ни грехов своих, ни неприглядности позывов (к тому же, отличая их от социально престижной, или «выгодной», греховности), досадовал лишь на превратное толкование того и этого. Чужд будучи побед не-своих, не мог утаить похвалы и врагам, словно зря в противном (таении) форму лжесвидетельства или зависти, окрадывания и непоклонения образу Вышняго. И неважно, что в невинном сем возможно было разглядеть столь множественные нарушения заповедей – страшнее было бы делать вид, что соблюсти каждую можно требовать в отрыве от прочих, неблюдение же вплоть до малой – порицать независимо от обстоятельств либо tradeoffs involved.
Мета-дилеммой же оставалось великое неведение того, как, «которыма очима», на видимую ересь сию взирает Бог, Емуже имя Любовь, яже превысша всякого закона есть. Многое зависит от того, будет ли вверен Суд свету (возможно общему всем Лицам естеству, или ousia), а именно – Слову ли, Утешителю Духу Истины, не требующим – в отличие от лукавых правдорубов-губителей – смертной казни за согрешение на копейку. Не блаженнее ли за малейшее ныне же тысящекрат сожжену быти (отонюду же не избегнув мытарств грядущых)? – открытый вопрос, при всем своем правдоподобии от привычности и многоопытности созерцания подобных любомудренных отповедей, оставался открытым. Совместен ли сомнениям ад бессмыслия прижизненный или «пришибленность» жизнью под соусом бесстрастия и почти нирваны? – вот что занимало его своей отвратительной пошлостью в случае поставления вожделенным плодом, будучи едва ли не коррелятом творческой выхолощенности, при всем неизбывном уважении к избыточным страданиям и духообременяющим тяготам, что калечат-ломают, но, закалая и закаляя, нимало не развивают души.
Впрочем, как станет ясно в дальнейшем, его собственный нарциссизм занимал его лишь в той мере, в коей частная интроспекция имеет касательство до глобальной онтологии и метафизики. Коль скоро генеральная совокупность «индивидуев» сокрыта, а малая несет не так много смысловой нагрузки (ввиду глубокой ненулевости суммы ошибок первого и второго типов, или альфа значимости и бета мощности теста в смысле отвержения истинной и приятия ложной гипотез), не стоит брезговать глубинными частными кейсами да групповыми фокусами.
От незатейливого наблюдения того, сколь очевиднее нравился женщинам красивым и умным (положим для простоты, что на таковых глаз его горел пуще, тем мобилизуя его чары, а заодно преображая их собственное отражение в его глазах) – так вот, от сего индуцировал баланс комплементарности и некоммутативности. Первое постулировало сближение подобных, в частности лучших – с лучшими. Причем помимо почти тривиальной опоры на почти очевидность лучшего (для лучших же, когда речь идет о глубине, постигающей глубину, а не о слиянии яркостей) как мерила, речь шла и о более тонких приложениях сего вероятностного распределения, далекого как от конвенциональных, так и от оным соревнующей талебовости – т.е. равноудаленность от толсто- и тонкохвостовости функций плотности. Так, дабы не быть голословными, отметим то, как лучшее притягивается лучшей же средой и отторгается – худшей либо неопределенно-посредственной (что «справедливо» как для спортсменов-лидеров, проигрывающих середнякам в менее требовательных условиях, так и для гениев, прозябающих в провинции либо средь переходно-коснеющей мерзости запустения). Из сего сопряжения более высоких вероятностей с сугубыми отклонениями от середины по обе стороны – не очевидно ли, что наш герой с почти равновеликими шансами рисковал очутиться как на пике, так и на дне? Но, поскольку количество мест на олимпе строго ограничено, подножие же долины или дна широко, то не явствует ли – и не следует ли с пугающей необходимостью (впрочем, к вящему ликованию худших и приспособленной посредственности) – то, что он был почти обречен оказаться в худшем месте в кратчайшее время? Пределом непогрешимого исполнения заповедей не служит ли мученичество и короткое крестоношение? Что же касается промежуточных состояний, об оных столь же трудно судить ввиду вышеописанного распределения (когда малые отклонения от полной неопределенности характеризуются малой вероятностью, – так словно посредственность и прозябание сами по себе являются странными аттракторами, «черной дырой» с почти полной утратой либо неиспусканием информации, sticky state с признаками bad equilibrium (худого равновесия), adverse selection (скверного или превратного отбора) и шеолом со сложноветвящейся либо отсутствующей сценарностью – в чем-то сродной с пост-реинкарнационной амнезией, эффективно неотличимой от смерти и тем сводящей на нет тест различения меж аврамическими версус кармическими парадигмами последней игры либо ее повторения). Как ни трудна и картина реконструирования его внутреннего состояния в сравнении с внешним положением, со всей очевидностью станет ясно, что обе не только обретаются на полноте мазков со всей простотой, но и наиболее тесно определяются друг другом – пусть и в режиме свободы, а не сковывающего преодоления. Свободы сделать решающий шаг, превозмочь, transcend?..
Ну, а второе из обещанных (тентативно нащупываемых) регулярностей либо «индуцируемостей» относится к межпоколенческой симпатии и приятию. Для целей же практических, дабы не переутомлять читателя (сонаблюдателя, с коим имеем радость советоваться и делиться, не советуя или назидая в совершенно неуместной тональности всеведения там, где не обретается и первого приближения), поспешим сузить широкую область применения до той же притягательности полов, розных поколениями. Так, одним из последних (записанных со слов очевидцев, а впрочем, не из первых уст) его наблюдений было то, что позитивное отношение к нему может определяться сверстницами, как и более старшими особами, тогда как юные – дщери своего времени и наследуемых канонов привлекательности и конвенций проявления знаков внимания – могут в сущности блюсти прохладный нейтралитет. Несколько более общо, вероятность того, что тем же или более старшим поколениям понравится особь более юного возраста, a priori выше обратного, – а именно того, что младшим понравятся старшие. Это вовсе не столь тривиально, как может показаться. Во-первых, хотя бы тем, что дельта разрыва поколений, стремящаяся к нулю, означает любовь меж сверстниками (вплоть до нарциссизма индивида), – что соответствует тождественному совпадению вероятностей, но отнюдь не их максимуму: помимо любви к себе, мыслима и ненависть, и безразличие, и спектр более непростых переживаний. Во-вторых, куда важнее сего специального случая или представления то, сколь роднит и урезонивает сия гипотеза все вышевысказанные, в частности в своей формальной неудобоотличимости от некоммутативности типов ошибки (как и неэквивалентности альфа и бета).
Герой обречен по определению: обречен страдать. Либо влиять. Либо – на то и это?..
Впрочем, не вполне свободна была его теория и от известных субъективных изъятий да оговорок. Самому-то ему – все ли юные представительницы нравились? Не ловил ли себя время от времени на позывах к старческому побрюзгиванию в адрес всех этих кустистых бровей а-ля Кара (еще когда писалась через двойное «gn’ и переставшая после поста на форуме Y Gyrddien, подсказавшего, что не бывает таких имен, как и Leezza и производных) или Марго, гипертатуированности и сакраментальных очочек, за коими тает неповторимость в качестве цены соответствия и легкой приукрашенности. Этой напасти, что – подобно ложному упрощенчеству – неизменно влечет непоправимое отягощение, невозможность выбраться из дебрей абсурда подобно бессилию смыть более не модный татуаж.
Исход второй: мытарствами межпорнократийными
Меж первым и вторым исходами пролегло посткризисное межсезонье, интеллектульно беспутное распутье, когда всяк утюг заквакал (а затем – и magna opera поиспускались) о том, как же все, однако, заблуждались в своей клубной вере в непогрешимость упрощенчества, и «только он» (они, элита среди элит Клуба) прозирали и прорекали всяческая. Флюгера сии ничем не рисковали: «Got nothing to lose and everything to win!» Поначалу постулируя абсурдные леммы на тему эффективности рынка в сильных и полусильных формах, а затем срывая аплодисменты в случае мягких и условных опровержений своего же фанатичного легковерия в безопасность overleveraged growth paths (видимо, по Модильяни-Миллеру, даже в случае, когда стоимость обслуживания debt overhang стоила в точности роста ВВП – пусть и при околонулевых, отрицательных, почти комплексных ставках рефинансирования, условиях реструктуризации, rollover terms) – неизменно срывали овации и пополняли репутационный счет. Goodwill-капитал разбухал в меру преобладания недоброй воли.
Не желая участвовать во всем этом пирамидозодчестве (или «Ponzi-понтах», как он сам выражался, имея в виду почти всякий актив вторичного и производных рынков), он на время выпал из обоймы. Причем на пике славы, когда ему стали поручать – видимо, опасаясь его ретировки – наиболее сложные интервью с профессиональной прессой в случае «жесткого протупления» отраслевых аналитиков, чье чванство по чину принадлежности к топ-компании (а значит, косвенно, – и Клубу) лишало их мотивации к пониманию технических процессов и секторальных продуктов. Самое смешное: никто из этих «pundits’n’sages» не краснел, попадая впросак на элементарных вопросах, не касающихся собственно стандартной методики оценки (непонимание коей они, как водится, горделиво нарекали «практичностью»).
Артемий Ладознь
Каждый, как с необходимой достаточностью следует из ткани повествования, окажется в этом нуль-состоянии Среды, как по силам многим не просто выбраться, вызволив из нее лучших, но совершить то и это, не иначе как изменив ее верностью себе. Сия Тайна объяснима в терминах Комплементарности и Коммутативности, связь коих в свою очередь соотносится с иными подобными представлениями Тайны. Попутно пытливый читатель узнает скрытую этимологию Руси и путь князя Владимира, в связи с дилеммой Преображения.
Меж Задзенью и дазейном воззия Бомж-Бумазейный
Артемий Ладознь
© Артемий Ладознь, 2020
ISBN 978-5-0051-2410-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Меж Задзенью и дазейном воззия Бомж-Бумазейный
Сергию Фуделю. Неведомому, узнанному.
Вместо предисловия
Жизнь, в отличие от дешевого и притянутого за уши «нарратива», едва ли мыслимо ваять скульптурно, попросту отщепляя излишнее ради «негативного пространства» либо описывать «уникурсально», одной последовательной линией. Приходится – мазками с возвратами, лавируя сквозь сценарии и пробираясь по вороху черновиков, словно перегнивающей палой листве во дворике, в котором суждено сойтись, схлестнуться судьбам мира.
Поведай, Аист: когда же стряслось все это с ним? (Напрашивается: да не молви «nevermore’!). Была ли столь острой необходимость, столь вопиющей – неизбежность ему, человеку выдающихся ранних достижений, отгастролировавши всеми корпоративными «столицами» (разумея престижнейшие инвесткомпании с тэгом Capital), угодить в… БОМЖедомку? А прежде – сдуться до литературно-научного негритянства. Которое, помимо рабского труда за четверть оплаты и отнюдь не безымянных и притом сумасбродных клиентов, полагавших, что мотивировали полной оплатой на «клиентскую всеправоту», даровало скорее иллюзию свободы творчества, независимости как таковой: примерно так же лолиты могли бы привести себе апологию. Причем аналогия тем глубже, что и затянувшееся бегание мужами гения – производства лучших смыслов яко детищ – сравним с затяжной же бездетностью жриц любви. Да первое и есть род проституирования: произвольно, по заказу клиентов понуждать вдохновение к оргастико-экстатическим творческим отправлениям – зачастую потугам впрямь успешным, в коих заведомой уверенности неймешь.
Пожалуй, поступали уже ранние «звоночки» к тому: то однокашники (из региона, которому предстояло быть разрушену) видели в нем нечто трагически недюжинное – из тех, что либо мгновенно вгору идут, либо тотчас уходят; а то цыганка, сама и притом бесплатно вызвавшаяся аугурить ему, тотчас заключила, что подчиненным ему не бывать. Ему, кто и впрямь дорожит свободой (в первую очередь – внутренней), но презирающему всякую манипуляцию, насилие над совестью, мягкое подталкивание (nudging: кажется, за освящение сего непотребства уже канонизируют по завещанию?) Ведь даже в общественно приветствуемом стремлении обзавестись множеством друзей или любовниц он усматривал наивную и плохо скрываемую жажду власти, в коей и себе-то признаться совестно.
Или, может, уместнее прежде рассмотреть деградацию среды, сопутствовавшую остыванию Страны (или оное обусловившая)? Ведь Страна жила от силы четверть века по борьбе; отказавшись же от борения, немедленно перешла к медленному остыванию: от ранних пламенных лет первой половины века – к «оттепели», затем «застою», наконец – к леденящему холоду танатико-хтонического эрона. От неравнодушия – к сластолюбию, приспособленчеству «доставания» и полезным знакомствам с людьми «нужными» и «деловыми», «умеющими жить» и «от жизни не отстающими». Стоит ли дивиться тому, что Страна уже готова была к последнему прыжку в полное самоотрицание, в просветление алчностью и нигилизм в адрес всех прошлых альтернатив. Страна, чьи жены вскоре охладели не только к горю другого и «чужим» же детям (все это ранее не бывало чуждым, откуда и внешне грубоватая бытовая бесцеремонность), но и к собственным, родственно обрюзгшим мужьям, взяв за обыкновение обзаводиться молодыми самцами «с хорошими генами», «для здоровья» во исполнение заповедей «возлюби себя» и «не дай себя использовать» (уклонение от коих составило новый кодекс смертных грехов); чья новоприобретенная эротичность куплена ценой отказа от прежних теплоты и душевности, а храмостояния на фоне их ускоренного возведения сопрягалась с мамоноугождением-яко-смирением; могла ли уже такая страна не перейти к выбрасыванию на помойку стареньких фото и детских игрушек в рамках тинейджерски безжалостного порывания с «совковым» прошлым?..
В Стране, где были как дети и, кажется, счастливы… В Едеме, где игра theo-the (i) n/-den вышла из-под контроля…
Пал ли Рим от гедонизма своего и растленной мерзости запустения, но во Христа облекшись? Видать, посчастливилось ему завоеванным быть ордами вечно ищущих Lebensraum, до жизни жадных германцев, имевших еще потенциал грешить и каяться, не растворившись в гипостоическом, пар (а) ориентальном безразличии. Похоти и страстишки мелкие еще не подменили желаний и стремлений – в отличие от крайностей вроде издыхающей Византии. Или Страны – на излете…
Возможно, падение героя началось с хитиножадных экспериментов над пчелами (убить, прежде чем укусит!) да тараканами – так, что возмездие не замедлило: кошмарные сны-галлюцинации наяву с пчелками невинными, которые явились словно на суд. Пресеклось же по «нелепой» случайности: нечаянно раздавил ящерку, отбил кусочек зуба сверстнику… Причинив боль и прочувствовав заочно, переменился в корне. Или, может, то добрые советские мультики да сказки русско-европейско-восточные, что привили любовь к животным? А те первые опыты, – как и просмотр срамных картинок, по наущению первоучителей, сверстников, – были изнанкой пытливого и взыскующего ума? А может, и того проще: щемящие воспоминания из раннего детства о несчастном льве, помещенном в клеть зоопарка внутри парка отдыха тогда еще имени Калинина, – льве, глядевшем столь обреченно, что напоминал скорее игрушечного, бумазейного. Но ведь и игрушки – все эти обильные подношения, любовно даримые родными в праздники и безжалостно извергаемые ими же вон при малейшей видимой утрате, перемене внимания чада, нимало не заботясь о травме, причиняемой отчуждением от друзей и бессилием что-либо поделать с этим безумным, бессмысленным, невинным проявлением губительного радения и рачения, – разве все они были менее настоящими, живыми, родными? Все хранит сердце детское, незамутненное сменой: связей, себя, Праздника…
Не суди, взыскательный читатель, ни нас, ни себя слишком строго за невозможность (да и отсутствие амбиций) восстановить имя или исчерпывающую внутреннюю конституцию нашего протагониста (мы настаиваем на знаке плюс – хотя бы по определению действия правила самодиагностирования среды в ее реакции на профиль испытуемого). Во-первых, терпеливый наблюдатель сам сможет достичь полноты выводов ускоренными темпами по мере изучения. Во-вторых, совокупность подлежащих раскрытию более общих и насущных пластов непреходящей важности столь же массивна, сколь и многообещающа в самой канве, так что сложность – в отличие от ценности – скорее иллюзорна. Итак, а не начнем ли наш «квест» (снисходя к «новоязвам» адаптации)?
Throughshifting
Он всегда охотно подавал милостыню – даже в период пионерского неверия (первым бомжикам на церковной паперти). В сущности, он ощущал безразличие к тому, что жертвования юбилейного рубля может стоить ему сытного завтрака, а то и дневного рациона развлечений в лагере. Как же паростки гуманизма сочетались с зачатками снобизма («мне нечего доказывать») и даже где-то циничного снисхождения к противоположностям (критика как футурологических утопий марксизма-ленинизма – слияние города с деревней, – так и стояния пионеров из воцерковленно-суеверных семей на праздники в храмах)? Видимо, все просто: зарождение сострадания, сочувствия и «вчувствования» представляло лишь аспект проницания природ, сопряженного равно с критическим и творящим мышлением (в ту пору перемен едва не успевшую выродиться «мышлением»).
Но бомжи в более поздние годы отчего-то все чаще отказывались принимать его подношения. Словно гнушались; так что он начал подозревать в себе нечто недоброе, задаваясь извечным вопросом, коему – подобно истинному (внегормональному, хотя бы в силу его видимой моложавости) – должно посетить всякого мужа взыскующаго: «Не я ли, Господи?!»
Успел побомжевать-поголодать как в бытность «обменным» студентом («Sir, are you preppin’ for your morning test or just bummin’ around, Sir? Anyway, why don’tcha just gitcha ass right outta here and move on, like home, «cuz see my shift’s kinda over?..»), так и по приезде («Вы такой умный, что хотите индивидуальный график, чтоб работать; или думаете, так просто – досдать пропущенный год за неделю?»). В последнем случае самое обидное было не то, что все остатки средств были выложены на неизменно дорогущие книги, но скорее – слечь с корью в уже не детском возрасте (а маме – помыкаться по ломбардам) пришлось аккурат накануне получения престижной работы финансовым менеджером. Как страна заразилась суетливо-неплатежным безденежьем казино-при-шапито, так он подцепил корь от однокашников из вновь прибывших «оттуда» же. Тогда же поперли его с военной кафедры, – коему отсутствию оснований к беснованию, как и необходимости в присяге бесным, купно с нахождением в алюмнальном списке среди оных же, ему еще предстоит возрадоваться спустя лет пятнадцать. Поистине, Промысла не перемудришь, Провидению не присоветуешь…
Лет осьми от роду имел неосторожность ознакомиться с «Сотней рассказов из русской истории», а посему – пусть крамола сия явно и не была прописана – довольно скоро осознал, что «народ» вовсе не всегда прав или самосвят (подобно математике в естественнонаучных употреблениях или «демокраси» – инуде). Право, коль скоро и гений-то нередко ошибается, то кольми паче – плебс, охлос, флешмоб нечестивых, возомнивших свои страстишки и похоти гласом богов. (Впрочем, в мире античном последние не слишком превосходили человеков, в силу или немощь чего оное тождество вполне выплясывалось).
Но в остальном он всегда был с народом, а критика его неизменно обрушивалась на узкоэкспертно-жреческую притязательность, имеющую (подобно идолу Эль-Демократийя и в отличие от унтер-офицерской вдовы) склонность к самопосрамлению. Простые нередко являют мудрость, ускользающую от тех, чей духовный взор давно атрофировался под тяжестью вспоможений и «костылей», за интуицию и опыт все чаще принимая привыкание и леность в различении и сличении. Разумеется, неприятным открытием станет для него известная материализация философского суждения одного мудреца из богадельни, склонного рассматривать толпу как «стадо баранов, нуждающегося в пастыре» – что и демонстрирует век сей, когда сковороды и прочий интернет вещей поумнели настолько, что компенсировали хиреющий разум, в досадном контрасте с футуристическими и даже антиутопичными прогнозами той далекой поры, когда все мы были «ближе к будущему» и когда потомки грезились полубогами столь совершенными, что дефицит человечности проявлялся бы в излишнем уклонении от пороков и страстей. О, знать бы тогда, что сии последние выродятся настолько, что вознесены будут в ранг достоинств, когда зло не только требует терпимости и смиренного снисхождения, но тщится слыть исключительно достопоклоняемым. Я-де урод, посему уважьте меня!
Да, немало было ценных и колоритных «экспонатов» в том богоугодном (а злым языкам показалось бы – богозабытом) философском доме. Пожалуй, что – философском пароходе, ковчеге отчуждения, или «идиотизма», – воли быть собой и не квакать в такт клубу. А кому мнится пропасть меж двумя пароходами, так дерзнем вспомнить, что и от оного пресловутого прославились или хоть «прогремели», мягко говоря, не все. Пожалуй, никто за редким исключением вроде Сорокина… Или, возможно, поспешит читатель провести более разительный контраст, своего рода линию Маннергейма меж двумя непримиримыми лагерями: неформальных кухонных мудрецов, так ничем и не утвердившимися – и кастами «профессиональных мыслителей с девяти до пяти», чей нехитрый вклад вроде доказательства единственной теоремки по следам ранее проторенным заработали им чины и ранги…
Как ни готов бывал поспешить на помощь, с ним нередко приключалось тяжкое испытание: всякий раз посреди вящего безденежья ему попадались несчастные просители. Помимо явного знакомства с психологией (иначе как бы прочли на челе его отзывчивое «лопушество»), их трогательное и доверчивое бесстыдство и впрямь нередко выдавало острую нужду, внезапное озлобление среды и наглую предгибель. Подобное, по слову среднего и околокритического Хайяма, «издевательство неба» было совершенно невыносимо сердцу взыскующему, неравнодушно-неупокоенному и не утучненному нирваническим бесстрастием либо дебело-одеревенелой сломленностью. За что – к чему подобное унижение без греха? Наглый суд в виде наглых же (видимо «напраздных») страданий других, подобный внезапной смерти?
А на всякое неравнодушное сердце, ищущее откликнуться и помочь помимо собственной самодостаточности, всегда найдутся радетели-доброхоты с целебной бейсбольной битой. Одни от сего расколотого лагеря и разделившегося дома – назовем их де-факто неверными циниками – известны склонностью отыскивать патологию во всяких отправлениях творческого или любящего сердца, и не преминут детектировать самолюбование либо тщеславие, а то и выгоду во всяком желании оказаться полезным да послужить нуждающимся. Их внешние противники из самозваных учителей церкви – отчего не величать таковых де-юре верующими? – так вот, сии, в ответ на омрачающую жизнь дополнительную боль неведения смысла в избыточных страданиях любимых или просто «ближних» (чей ареал взаиморелевантен твоему), неизменно нарекут мотивы гордыней пополам с отчаяньем (пусть и споря в нюансах некореллирования сих двух с тщеславием), соделав несчастного повинным погибели и Суда в меру отягощенности сразу несколькими смертными грехами (технически – страстьми, пусть и без похотей, как и вне нарушения буквы апофатических заповедей).
Сродни и вдогонку тому, как доставалось от него докам над доками, так перепадало на орехи и учениям над учениями. Не только заезженным «дерьмокраси» и «постмодерьми» (равно не терпящим ровно того, что постулируют и воспевают), но и ана- и эпибуддизмам, склонным вопреки собственным блужданиям, снисходительно похлопывать «меньших братьев» по плечу.
Наметим еще пару мазков по обозначенным магистралям судьбы и кармического профайлинга (сколь нелепы в своей лжетворческой притязательности все эти portmanteau и coinages, не так ли?) Далеко не эпизодичными были случаи кражи последних денег либо еды у него – в том числе и в зарубежных студгородках. Стоически и эпикурейски вздыхая, понимал, что несчастным да обездоленным, видимо, нужнее оказалось – особенно на фоне внешнего благополучия среды, когда страдалец словно понуждаем еще и приносить извинения за неловкость лицезрения своих невзгод, а весте и собственную неустроенность, будто бы лжесвидетельницей выступающую против нравов и ценностей оптимистичного света.
Не оттого ли и он тогда же, в бытность бедным спудеем или магистрантом, с относительной легкостью решал вопрос нависшей голодной смерти, заимствуя у соседей перемерзшую картошку, а при длительном их отсутствии – и утку, давно залежавшуюся в морозилке до состояния «синей птицы». Он не знал, как разрешить сей простой и приземленный режим дилеммы «быть – иль не быть» законными, внешне одобряемыми средствами, а в отсутствие таковых, опять же, видел себя едва ли не клеветником на благость Промысла и любовную мудрость Создателя. Это было начало его Черной Книги, зиявшей подспудно, а временами – даже при внешнем благополучии, словно активируя вновь горние потребности «как по Маслоу».
Впрочем, таковые никогда и не дремали и не приглушались, так как творческий поиск, неотделимый от критического мышления, был для него воздухом. «Попасть» на армию, тюрьму, суму или желтый дом ему было страшно лишь в этой связи: с утратой времени-средств продолжать поиск. Разумеется, с этаким отношением к строгости века сего и злобе дня было очевидно, что ждет его «дорога дальняя» да тот или иной «казенный дом»: не тюрьма, так богадельня, – как ждала всех нежно-бумазейных да неустроенных с начала тепловой смерти Страны, которой было предложено скукожиться до казино да дома свиданий, в уповании на «невидимую руку», чья всенепогрешимая воля (движимая алчной рациональностью) имела все рассудить, распределить и разместить. Явственно проступала назревшая необходимость «смиренно измениться самому», не чая перемен миру и веку сему. Причем сулила ему ровно та «ресоциализация», коей он не подлежал по собственному определению ценного: того, что не сводится к производству пустот, в несметных объемах потребляемых обществом успешных транзиционеров.
Впрочем, «явно» это было, как и водится в канонах «заднечисленного программирования», ровно тем «гуру» и пророкам, что, не упредив ни единого кризиса и яро отрицая самое возможность таковых, капитализировали собственное достохвальное невежество не только в звонкий биткойн, но и «репутационно». «Я всегда прав», даже когда «мы порой ошибались». Ясное дело, из тех, кто и впрямь все провидели и возвещали, были отстранены от кафедр и графинов яко неблагонадежные и не вполне лояльные не только ценностям и символу веры Клуба, но и возделыванию воздухов и возгонке perceived value оных. Не сказать, что и в «ревущие» 90е сии трюкачи от науки фигурировали среди печальноизвестных теней профессоров со свалок: своевременно будучи прикормлены от Шороха, как и от малоуспевающих студентов, обучали сему искусству выживания собственным примером – уже молодых да ранних – в рамках модулей learning by doing. Их LBDинальная песнь все еще не прозвучала – даже теперь, зря тепловую смерть Клуба и века от собственного эффективно-адаптивного коварства да алчной близорукости.
Вот как выглядели профессиональные споры с верными последователя («дисциплами» да «фолоуерами») оных гуру, точившиеся все больше вокруг применяемой методологии. Всякие его поползновения к осмыслению, пересмотру, восполнению или осторожному внедрению альтернатив напарывались на клубно-холопский снобизм, верноподданнический нигилизм в отношении альтернатив.
– Это какой-то «погром по Фадееву»! Не лезь со своим SWOT-взвешиванием: вполне достаточно простых multiples. We ain’t no rocket scientists. – Последний категорический императив интернационала клубных прихлебателей звучал традиционно горделиво, так словно кичение неведением или интеллектуальной стерильностью есть sine qua non допуска, фейс-контроль пополам с public & private key that’s downright unhackable. – Мы практики, и будь добр применяй то, что можно сравнивать с кропаньем прочих «серьезных» контор.
– Практики вы мои, на всю дыню серьезные! Не вы ли, значительно воздевая перст, проморгали все кризисы, шельмуя всякого инакозрящего как кандидата на остракирование от Клуба? Джентльмены с серьезными и профессиональными лицами, – не вы ли отказываетесь понять, что все эти ваши multiples могут не проканать не только вне выборки (out of sample), но и для разных рынков и индустриальных профилей. Избыточно разбросанные внутри-категорий могут сойтись по средним-вне; но индивидуально оцениваемые не сойдутся, не стабилизируются! А более продуманные инструменты (пусть и не всегда – более сложные) – не профессора ли да «яйцеголовые» теоретики ввели в оборот прежде чем роторы-«шестерки», торгующие производными пустотами и пирамидные каменщики подхватили как последнее слово практики?
Его мнение уважали, присутствие и помощь – ценили; но побаивались, что подведет своей инициативностью да ересью методологической под «погром по Фадееву». Таких и за бугром боссы величают не иначе как «головная боль». «Or does he really believe I dunno my job as a higher-up? I’m the umpire in the end, and I want it done just the freakin’ exact same way our customers do!»
Впрочем, понимал он и то, что винить придется далее, брать – выше: не в полном ли согласии с «научным методом» действует общество, рассматривающее гений либо как делинквентность и род девиантности (подлежащей игнорированию или исправлению), либо как невозможное и неинтересное явление в меру малости априорной вероятности или апостериорной частоты. Даже в эпоху «чернолебедности», когда скрытые ужасы (или важность масштабного маловероятного) подхвачено и беатифицировано ровно теми, что осмеивал сие отклонение от канона прежде, гений рассматривается как угроза – Клубу и миру – тем самым подлежа реинтеграционно-инклюзивной терапии. Разумеется, кроме случаев реканонизации (учение Талибат – не худший тому пример), впрочем, постигающей вместимый (не высший) гений.
Внешность его составляла несколько непростое впечатление, во всяком случае теперь, ввиду отсутствия достоверных записей (затрудняющего оценку баланса моложавости и дурнения), как и доброжелательных свидетелей из современников. Впрочем, в меру дефицита убедительных доказательств в пользу его предполагаемого нынешнего статуса (который даже навскидку в высшей степени гадателен), со временем может претерпеть изменения и натуральный портрет, а не только образ или восприятие оного.
Порой его самого не покидало ощущения острой симпатии со стороны противоположного пола, усиливавшееся по мере приступов нарциссизма – во многом, подобно биполярному расстройству, чередовавшихся с самобичеванием и убийственным, показательно русским, прекраснодушием в адрес коварства и злонамеренности (мол, будь верен и к смерти). Впрочем, не до меры, отличающей бесноватых от активистов, коих чаша миновала его. Одни считали его слишком сексапильным для мужчины, другие (в основном на Западе) подобными откликами со знаком «плюс» крепили его самомнение. Он то забавлялся властью «манкости», то раздражен был ею – особенно если подвержены ей были непрошенные гости в лице собратьев по полу или же дети, – но никогда не злоупотреблял. Подобно сему, обладая недюжинными коммуникативными навыками (conversation «скиллзами», как выражались креолизированные HR и корфин-менеджеры), нечасто ощущал потребность их применить. И откуда только что бралось у этого заочника, которому все или почти все удавалось с первого же наскоку (как о себе знал с окончания школы): что новые дисциплины, что – произвести впечатление на первую в жизни женщину!
Попробуем рационализировать все это несколько схематично да стилизованно. Кажется, с его же слов, был он абсолютным интровертом ex ante (поглощенным производительным созерцанием, требующим в первую голову внутренних ресурсов) – и совершенным экстравертом ex post, в процессе, по мере соприкосновения с конкретными аудиториями постоянных жизненных и духовных спутников, как и транзитно-случайных попутчиков. Первые – столь же в ведении души, сколь неисповедимо соприкосновение с последними. Себе же сей безобидный и рефлексирующий нарцисс нравился «временами и ракурсами». А раз так, то и не считал свою притягательность показателем объективно гармоничной внешности. Тем паче, что за неимением трюмо (но вполне воспроизводя оное в рамках своего первого школьного открытия о числе отражаемых мнимых зеркал как изображений высших порядков в зависимости от угла отражения меж двумя зеркалами) – так вот, за неимением такового, не судил о прочих, недоступных ракурсах и режимах освещения, яко о ни важности неимущих, ни by truth-value не характеризующихся.
Как видно, и внутренний его портрет, еще более путаный, тем легче и разрешим. Порицая, отрицал как излишнюю парадоксальность (читай: неразличение аспектов), так и мнимый диалектизм (не питая особого пиетета ни к Гегелю, ни к Марксу, ни к Лао-цзы, а вместе воздавая всем им должное и не терпя хищения их славы) – в том числе в восприятии другими себя. Отнюдь не стыдясь ни грехов своих, ни неприглядности позывов (к тому же, отличая их от социально престижной, или «выгодной», греховности), досадовал лишь на превратное толкование того и этого. Чужд будучи побед не-своих, не мог утаить похвалы и врагам, словно зря в противном (таении) форму лжесвидетельства или зависти, окрадывания и непоклонения образу Вышняго. И неважно, что в невинном сем возможно было разглядеть столь множественные нарушения заповедей – страшнее было бы делать вид, что соблюсти каждую можно требовать в отрыве от прочих, неблюдение же вплоть до малой – порицать независимо от обстоятельств либо tradeoffs involved.
Мета-дилеммой же оставалось великое неведение того, как, «которыма очима», на видимую ересь сию взирает Бог, Емуже имя Любовь, яже превысша всякого закона есть. Многое зависит от того, будет ли вверен Суд свету (возможно общему всем Лицам естеству, или ousia), а именно – Слову ли, Утешителю Духу Истины, не требующим – в отличие от лукавых правдорубов-губителей – смертной казни за согрешение на копейку. Не блаженнее ли за малейшее ныне же тысящекрат сожжену быти (отонюду же не избегнув мытарств грядущых)? – открытый вопрос, при всем своем правдоподобии от привычности и многоопытности созерцания подобных любомудренных отповедей, оставался открытым. Совместен ли сомнениям ад бессмыслия прижизненный или «пришибленность» жизнью под соусом бесстрастия и почти нирваны? – вот что занимало его своей отвратительной пошлостью в случае поставления вожделенным плодом, будучи едва ли не коррелятом творческой выхолощенности, при всем неизбывном уважении к избыточным страданиям и духообременяющим тяготам, что калечат-ломают, но, закалая и закаляя, нимало не развивают души.
Впрочем, как станет ясно в дальнейшем, его собственный нарциссизм занимал его лишь в той мере, в коей частная интроспекция имеет касательство до глобальной онтологии и метафизики. Коль скоро генеральная совокупность «индивидуев» сокрыта, а малая несет не так много смысловой нагрузки (ввиду глубокой ненулевости суммы ошибок первого и второго типов, или альфа значимости и бета мощности теста в смысле отвержения истинной и приятия ложной гипотез), не стоит брезговать глубинными частными кейсами да групповыми фокусами.
От незатейливого наблюдения того, сколь очевиднее нравился женщинам красивым и умным (положим для простоты, что на таковых глаз его горел пуще, тем мобилизуя его чары, а заодно преображая их собственное отражение в его глазах) – так вот, от сего индуцировал баланс комплементарности и некоммутативности. Первое постулировало сближение подобных, в частности лучших – с лучшими. Причем помимо почти тривиальной опоры на почти очевидность лучшего (для лучших же, когда речь идет о глубине, постигающей глубину, а не о слиянии яркостей) как мерила, речь шла и о более тонких приложениях сего вероятностного распределения, далекого как от конвенциональных, так и от оным соревнующей талебовости – т.е. равноудаленность от толсто- и тонкохвостовости функций плотности. Так, дабы не быть голословными, отметим то, как лучшее притягивается лучшей же средой и отторгается – худшей либо неопределенно-посредственной (что «справедливо» как для спортсменов-лидеров, проигрывающих середнякам в менее требовательных условиях, так и для гениев, прозябающих в провинции либо средь переходно-коснеющей мерзости запустения). Из сего сопряжения более высоких вероятностей с сугубыми отклонениями от середины по обе стороны – не очевидно ли, что наш герой с почти равновеликими шансами рисковал очутиться как на пике, так и на дне? Но, поскольку количество мест на олимпе строго ограничено, подножие же долины или дна широко, то не явствует ли – и не следует ли с пугающей необходимостью (впрочем, к вящему ликованию худших и приспособленной посредственности) – то, что он был почти обречен оказаться в худшем месте в кратчайшее время? Пределом непогрешимого исполнения заповедей не служит ли мученичество и короткое крестоношение? Что же касается промежуточных состояний, об оных столь же трудно судить ввиду вышеописанного распределения (когда малые отклонения от полной неопределенности характеризуются малой вероятностью, – так словно посредственность и прозябание сами по себе являются странными аттракторами, «черной дырой» с почти полной утратой либо неиспусканием информации, sticky state с признаками bad equilibrium (худого равновесия), adverse selection (скверного или превратного отбора) и шеолом со сложноветвящейся либо отсутствующей сценарностью – в чем-то сродной с пост-реинкарнационной амнезией, эффективно неотличимой от смерти и тем сводящей на нет тест различения меж аврамическими версус кармическими парадигмами последней игры либо ее повторения). Как ни трудна и картина реконструирования его внутреннего состояния в сравнении с внешним положением, со всей очевидностью станет ясно, что обе не только обретаются на полноте мазков со всей простотой, но и наиболее тесно определяются друг другом – пусть и в режиме свободы, а не сковывающего преодоления. Свободы сделать решающий шаг, превозмочь, transcend?..
Ну, а второе из обещанных (тентативно нащупываемых) регулярностей либо «индуцируемостей» относится к межпоколенческой симпатии и приятию. Для целей же практических, дабы не переутомлять читателя (сонаблюдателя, с коим имеем радость советоваться и делиться, не советуя или назидая в совершенно неуместной тональности всеведения там, где не обретается и первого приближения), поспешим сузить широкую область применения до той же притягательности полов, розных поколениями. Так, одним из последних (записанных со слов очевидцев, а впрочем, не из первых уст) его наблюдений было то, что позитивное отношение к нему может определяться сверстницами, как и более старшими особами, тогда как юные – дщери своего времени и наследуемых канонов привлекательности и конвенций проявления знаков внимания – могут в сущности блюсти прохладный нейтралитет. Несколько более общо, вероятность того, что тем же или более старшим поколениям понравится особь более юного возраста, a priori выше обратного, – а именно того, что младшим понравятся старшие. Это вовсе не столь тривиально, как может показаться. Во-первых, хотя бы тем, что дельта разрыва поколений, стремящаяся к нулю, означает любовь меж сверстниками (вплоть до нарциссизма индивида), – что соответствует тождественному совпадению вероятностей, но отнюдь не их максимуму: помимо любви к себе, мыслима и ненависть, и безразличие, и спектр более непростых переживаний. Во-вторых, куда важнее сего специального случая или представления то, сколь роднит и урезонивает сия гипотеза все вышевысказанные, в частности в своей формальной неудобоотличимости от некоммутативности типов ошибки (как и неэквивалентности альфа и бета).
Герой обречен по определению: обречен страдать. Либо влиять. Либо – на то и это?..
Впрочем, не вполне свободна была его теория и от известных субъективных изъятий да оговорок. Самому-то ему – все ли юные представительницы нравились? Не ловил ли себя время от времени на позывах к старческому побрюзгиванию в адрес всех этих кустистых бровей а-ля Кара (еще когда писалась через двойное «gn’ и переставшая после поста на форуме Y Gyrddien, подсказавшего, что не бывает таких имен, как и Leezza и производных) или Марго, гипертатуированности и сакраментальных очочек, за коими тает неповторимость в качестве цены соответствия и легкой приукрашенности. Этой напасти, что – подобно ложному упрощенчеству – неизменно влечет непоправимое отягощение, невозможность выбраться из дебрей абсурда подобно бессилию смыть более не модный татуаж.
Исход второй: мытарствами межпорнократийными
Меж первым и вторым исходами пролегло посткризисное межсезонье, интеллектульно беспутное распутье, когда всяк утюг заквакал (а затем – и magna opera поиспускались) о том, как же все, однако, заблуждались в своей клубной вере в непогрешимость упрощенчества, и «только он» (они, элита среди элит Клуба) прозирали и прорекали всяческая. Флюгера сии ничем не рисковали: «Got nothing to lose and everything to win!» Поначалу постулируя абсурдные леммы на тему эффективности рынка в сильных и полусильных формах, а затем срывая аплодисменты в случае мягких и условных опровержений своего же фанатичного легковерия в безопасность overleveraged growth paths (видимо, по Модильяни-Миллеру, даже в случае, когда стоимость обслуживания debt overhang стоила в точности роста ВВП – пусть и при околонулевых, отрицательных, почти комплексных ставках рефинансирования, условиях реструктуризации, rollover terms) – неизменно срывали овации и пополняли репутационный счет. Goodwill-капитал разбухал в меру преобладания недоброй воли.
Не желая участвовать во всем этом пирамидозодчестве (или «Ponzi-понтах», как он сам выражался, имея в виду почти всякий актив вторичного и производных рынков), он на время выпал из обоймы. Причем на пике славы, когда ему стали поручать – видимо, опасаясь его ретировки – наиболее сложные интервью с профессиональной прессой в случае «жесткого протупления» отраслевых аналитиков, чье чванство по чину принадлежности к топ-компании (а значит, косвенно, – и Клубу) лишало их мотивации к пониманию технических процессов и секторальных продуктов. Самое смешное: никто из этих «pundits’n’sages» не краснел, попадая впросак на элементарных вопросах, не касающихся собственно стандартной методики оценки (непонимание коей они, как водится, горделиво нарекали «практичностью»).