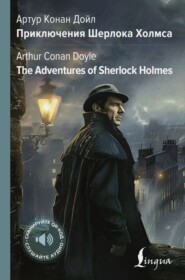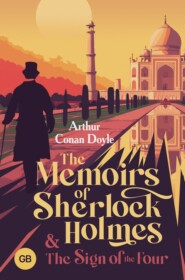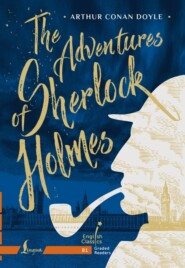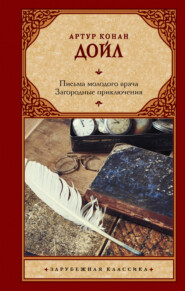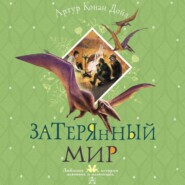По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Труп в облаках. Ужасные и мистические истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Власть?
– Ну да, влияние, которое он имеет на нее.
– Милый Гуго, – серьезно начал мой приятель, – у меня нет привычки цитировать Евангелие, но теперь мне сам просится на язык один текст, а именно: «Слишком много знания сделало их безумными». Вы слишком много занимались последние дни.
– Вы, значит, хотите сказать, что никогда не замечали тайных отношений, существующих между гувернанткой и секретарем вашего дяди? – вскричал я.
– Хватите-ка бромистого калия, – сказал Джон. – Это сильно успокаивает, особенно если взять дозу в двадцать граммов.
– Обзаведитесь очками. Вам, право, не мешает обзавестись ими.
Метнув эту парфянскую стрелу, я повернулся и пошел прочь, чувствуя себя сильно раздосадованным.
Не прошел я и двадцати шагов, как увидал парочку, о которой только что говорил с моим приятелем.
Она стояла, прислонившись к солнечным часам; он стоял против нее. Он что-то горячо толковал ей, делая по временам резкие жесты. Склонившись над нею длинным телом, он походил, со своими жестами длинных рук, на огромную летучую мышь, взвившуюся над жертвой.
Я помню, что мне сразу же пришло в голову это сравнение, еще более утвердившееся, когда я увидал ужас и испуг, просвечивавшие в каждой черточке ее прелестного лица.
Эта картинка служила такой прелестной иллюстрацией к упомянутому выше тексту, что мне страшно захотелось вернуться в лабораторию и заставить Джона неверующего полюбоваться ею.
Но я не успел привести моего намерения в исполнение, потому что был замечен Копперторном. Он повернулся и начал удаляться от меня по направлению к лесу; мисс пошла за ним, сбивая на ходу зонтиком придорожные цветы.
Я вернулся к себе, решив взяться за занятия. Но как я ни заставлял себя, мой ум никак не хотел сосредоточиться на книгах: он все время обращался к тайне.
Джон сообщил мне, что прошлое Копперторна не лишено пятен; несмотря на это, ему удалось приобрести огромное влияние на своего патрона. Я объяснял себе это тем тактом и искусством, с какими он потакал и поощрял поэтическую манию принципала. Но как объяснить не менее очевидное влияние этого человека на гувернантку? У нее нет никакой слабости, которой можно было бы потакать.
Эта связь была бы вполне понятна, если допустить, что они взаимно влюблены друг в друга; но инстинкт светского человека и опыт наблюдателя человеческой природы говорили мне, что тут нет места любовному увлечению. А если не любовь, то тут мог быть только страх – и все виденное мной подтверждало этот вывод. Что же именно могло произойти здесь за эти два месяца, что вселило в надменную черноглазую принцессу такой панический ужас перед этим англичанином с бледным лицом, мягким голосом и вкрадчивыми манерами?
За разрешение вот этой-то задачи я и принялся, да с такой энергией, с таким усердием, что забыл совсем про свои научные занятия и про страх перед грядущим экзаменом.
Я попробовал заговорить об этом с самой мисс Воррендер, когда застал ее одну в библиотеке (дети были отправлены в гости к детям одного соседа-сквайра).
– Вы, должно быть, чувствуете себя очень одинокой здесь в дни, когда нет гостей, – начал я. – По-моему, в этих местах слишком мало развлечений.
– О, для меня очень приятно общество детей, – возразила она. – Но я все-таки буду очень сожалеть, когда уедет отсюда мистер Терстон или вы.
– Я тоже буду в отчаянии в день отъезда. Я никак не ожидал, что мне понравится здесь. Но наш отъезд не лишит вас общества: мистер Копперторн всегда будет с вами.
– О да, это совершенно верно, – как-то уныло согласилась она.
– Это очень милый, любезный и образованный господин, – спокойно продолжал я. – Недаром к нему так привязался мистер Терстон-старший.
Говоря так, я внимательно наблюдал за своей собеседницей.
На ее щеках проступила легкая краска, а пальцы нервно барабанили по ручке кресла.
– Его манеры немного чересчур сдержанны, но…
Тут она прервала меня и сказала, злобно сверкнув своими черными глазами:
– К чему вы начали этот разговор?
– Прошу прощения, – смиренно ответил я. – Я не знал, что он не понравится вам.
– Я имени его не желаю слышать! – гневно вскричала она. – Это имя я ненавижу. Если бы подле меня был кто-нибудь, кто любил бы меня, – любил бы так, как любят там, за далеким морем, – я бы знала, что сказать такому человеку!
– А именно? – спросил я, пораженный этим неожиданным взрывом.
Она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал у себя на лице ее горячее лихорадочное дыхание.
– «Убейте Копперторна», – прошептала она, – вот что я сказала бы. «Убейте его, а потом приходите говорить мне о своей любви».
Я не нахожу слов, чтобы передать всю силу и ярость, которые она вложила в эти слова. Лицо ее приняло такое бешеное выражение, что я невольно сделал шаг назад.
Неужели эта змея есть та самая красавица, которая держит себя с таким достоинством и спокойствием за столом дяди Иеремии?
Я, правда, надеялся при помощи моих хорошо рассчитанных вопросов заставить ее обнаружить свой характер, но никак не ожидал вызвать такой взрыв. Она, видимо, заметила на моем лице выражение испуга и удивления и моментально изменила тон, разразившись нервным смехом.
– Вы, конечно, сочтете меня сумасшедшей, – поспешила сказать она. – Да, да, во мне сказывается мое индусское воспитание. В Индии всегда и во всем не признают половинчатости – в любви и в ненависти одинаково.
– За что же вы ненавидите мистера Копперторна? – спросил я.
– Собственно говоря, – ответила она, смягчая голос, – слово «ненависть» будет чересчур сильно; скажем лучше «отвращение». Этот господин из таких людей, к которым чувствуешь беспричинное отвращение.
Она, видимо, жалела, что дала себе увлечься, и пробовала теперь пойти на попятный.
Видя, что она хочет переменить разговор, я помог ей в этом. Я сделал какое-то замечание о сборнике индусских гравюр, которые она рассматривала перед разговором. У дяди Иеремии была великолепная библиотека, особенно богатая изданиями подобного рода.
– Эти гравюры не отличаются точностью, – сказала она, поворачивая страницу. – Но эта вот недурна, – продолжала она, указывая на одну из них, изображавшую вождя, одетого в нечто вроде юбки, с ярким тюрбаном на голове, – очень недурна. Именно так одевался мой отец, когда садился на своего белоснежного боевого коня, чтобы вести воинов Дуаба в бой против Ферингов. Они предпочитали моего отца всем другим, потому что знали, что Ахмет Кенгхис-Кхан не только великий полководец, но и великий жрец. Народ хотел иметь вождем только испытанного «борка» и никого другого. Теперь он умер, а все, кто следовал за его знаменем, либо рассеяны, либо погибли в боях, между тем как я, его дочь, живу простой наемницей в чужой далекой стране.
– О, когда-нибудь вы, наверное, вернетесь в свою родную Индию, – сказал я, стараясь хоть чем-нибудь утешить ее.
Несколько минут она рассеянно переворачивала страницы. Затем она вдруг испустила легкий радостный крик.
– Посмотрите-ка! – вскричала она. – Вот один из наших изгнанников. Это один из Бюттотти. Он изображен очень похоже.
Гравюра эта изображала туземца с не особенно симпатичной физиономией; в одной руке он держал небольшой инструмент – нечто вроде кирки в миниатюре, а в другой – квадратный кусок пестрой материи.
– Этот платок – это его «румал», – пояснила мисс Воррендер. – Само собой, они не показываются с ним в публичных местах. Равным образом он не возьмет с собой и священного топорика, но во всех других отношениях он изображен вполне точно. Я много раз путешествовала с этими людьми в безлунные ночи, с «люгхами» впереди, когда иностранцы не придавали никакого значения громким «пильхау», раздававшимся повсюду. О, такой жизнью стоило пожить!
– Но что такое значит «румал», и «люгхи», и прочее? – спросил я.
– О, это наши индусские слова, – смеясь, пояснила она. – Вы не поймете их.
– Но под этой гравюрой стоит подпись: «Представитель племени Дакка». А я всегда считал Дакков за воров.
– О да, англичане все считают их такими, – согласилась она. – Конечно, Дакки – воры, но ворами считают многих, которые и не думали быть ими. Этот человек – святой человек; это, по всей вероятности, один из «гуру».
– Ну да, влияние, которое он имеет на нее.
– Милый Гуго, – серьезно начал мой приятель, – у меня нет привычки цитировать Евангелие, но теперь мне сам просится на язык один текст, а именно: «Слишком много знания сделало их безумными». Вы слишком много занимались последние дни.
– Вы, значит, хотите сказать, что никогда не замечали тайных отношений, существующих между гувернанткой и секретарем вашего дяди? – вскричал я.
– Хватите-ка бромистого калия, – сказал Джон. – Это сильно успокаивает, особенно если взять дозу в двадцать граммов.
– Обзаведитесь очками. Вам, право, не мешает обзавестись ими.
Метнув эту парфянскую стрелу, я повернулся и пошел прочь, чувствуя себя сильно раздосадованным.
Не прошел я и двадцати шагов, как увидал парочку, о которой только что говорил с моим приятелем.
Она стояла, прислонившись к солнечным часам; он стоял против нее. Он что-то горячо толковал ей, делая по временам резкие жесты. Склонившись над нею длинным телом, он походил, со своими жестами длинных рук, на огромную летучую мышь, взвившуюся над жертвой.
Я помню, что мне сразу же пришло в голову это сравнение, еще более утвердившееся, когда я увидал ужас и испуг, просвечивавшие в каждой черточке ее прелестного лица.
Эта картинка служила такой прелестной иллюстрацией к упомянутому выше тексту, что мне страшно захотелось вернуться в лабораторию и заставить Джона неверующего полюбоваться ею.
Но я не успел привести моего намерения в исполнение, потому что был замечен Копперторном. Он повернулся и начал удаляться от меня по направлению к лесу; мисс пошла за ним, сбивая на ходу зонтиком придорожные цветы.
Я вернулся к себе, решив взяться за занятия. Но как я ни заставлял себя, мой ум никак не хотел сосредоточиться на книгах: он все время обращался к тайне.
Джон сообщил мне, что прошлое Копперторна не лишено пятен; несмотря на это, ему удалось приобрести огромное влияние на своего патрона. Я объяснял себе это тем тактом и искусством, с какими он потакал и поощрял поэтическую манию принципала. Но как объяснить не менее очевидное влияние этого человека на гувернантку? У нее нет никакой слабости, которой можно было бы потакать.
Эта связь была бы вполне понятна, если допустить, что они взаимно влюблены друг в друга; но инстинкт светского человека и опыт наблюдателя человеческой природы говорили мне, что тут нет места любовному увлечению. А если не любовь, то тут мог быть только страх – и все виденное мной подтверждало этот вывод. Что же именно могло произойти здесь за эти два месяца, что вселило в надменную черноглазую принцессу такой панический ужас перед этим англичанином с бледным лицом, мягким голосом и вкрадчивыми манерами?
За разрешение вот этой-то задачи я и принялся, да с такой энергией, с таким усердием, что забыл совсем про свои научные занятия и про страх перед грядущим экзаменом.
Я попробовал заговорить об этом с самой мисс Воррендер, когда застал ее одну в библиотеке (дети были отправлены в гости к детям одного соседа-сквайра).
– Вы, должно быть, чувствуете себя очень одинокой здесь в дни, когда нет гостей, – начал я. – По-моему, в этих местах слишком мало развлечений.
– О, для меня очень приятно общество детей, – возразила она. – Но я все-таки буду очень сожалеть, когда уедет отсюда мистер Терстон или вы.
– Я тоже буду в отчаянии в день отъезда. Я никак не ожидал, что мне понравится здесь. Но наш отъезд не лишит вас общества: мистер Копперторн всегда будет с вами.
– О да, это совершенно верно, – как-то уныло согласилась она.
– Это очень милый, любезный и образованный господин, – спокойно продолжал я. – Недаром к нему так привязался мистер Терстон-старший.
Говоря так, я внимательно наблюдал за своей собеседницей.
На ее щеках проступила легкая краска, а пальцы нервно барабанили по ручке кресла.
– Его манеры немного чересчур сдержанны, но…
Тут она прервала меня и сказала, злобно сверкнув своими черными глазами:
– К чему вы начали этот разговор?
– Прошу прощения, – смиренно ответил я. – Я не знал, что он не понравится вам.
– Я имени его не желаю слышать! – гневно вскричала она. – Это имя я ненавижу. Если бы подле меня был кто-нибудь, кто любил бы меня, – любил бы так, как любят там, за далеким морем, – я бы знала, что сказать такому человеку!
– А именно? – спросил я, пораженный этим неожиданным взрывом.
Она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал у себя на лице ее горячее лихорадочное дыхание.
– «Убейте Копперторна», – прошептала она, – вот что я сказала бы. «Убейте его, а потом приходите говорить мне о своей любви».
Я не нахожу слов, чтобы передать всю силу и ярость, которые она вложила в эти слова. Лицо ее приняло такое бешеное выражение, что я невольно сделал шаг назад.
Неужели эта змея есть та самая красавица, которая держит себя с таким достоинством и спокойствием за столом дяди Иеремии?
Я, правда, надеялся при помощи моих хорошо рассчитанных вопросов заставить ее обнаружить свой характер, но никак не ожидал вызвать такой взрыв. Она, видимо, заметила на моем лице выражение испуга и удивления и моментально изменила тон, разразившись нервным смехом.
– Вы, конечно, сочтете меня сумасшедшей, – поспешила сказать она. – Да, да, во мне сказывается мое индусское воспитание. В Индии всегда и во всем не признают половинчатости – в любви и в ненависти одинаково.
– За что же вы ненавидите мистера Копперторна? – спросил я.
– Собственно говоря, – ответила она, смягчая голос, – слово «ненависть» будет чересчур сильно; скажем лучше «отвращение». Этот господин из таких людей, к которым чувствуешь беспричинное отвращение.
Она, видимо, жалела, что дала себе увлечься, и пробовала теперь пойти на попятный.
Видя, что она хочет переменить разговор, я помог ей в этом. Я сделал какое-то замечание о сборнике индусских гравюр, которые она рассматривала перед разговором. У дяди Иеремии была великолепная библиотека, особенно богатая изданиями подобного рода.
– Эти гравюры не отличаются точностью, – сказала она, поворачивая страницу. – Но эта вот недурна, – продолжала она, указывая на одну из них, изображавшую вождя, одетого в нечто вроде юбки, с ярким тюрбаном на голове, – очень недурна. Именно так одевался мой отец, когда садился на своего белоснежного боевого коня, чтобы вести воинов Дуаба в бой против Ферингов. Они предпочитали моего отца всем другим, потому что знали, что Ахмет Кенгхис-Кхан не только великий полководец, но и великий жрец. Народ хотел иметь вождем только испытанного «борка» и никого другого. Теперь он умер, а все, кто следовал за его знаменем, либо рассеяны, либо погибли в боях, между тем как я, его дочь, живу простой наемницей в чужой далекой стране.
– О, когда-нибудь вы, наверное, вернетесь в свою родную Индию, – сказал я, стараясь хоть чем-нибудь утешить ее.
Несколько минут она рассеянно переворачивала страницы. Затем она вдруг испустила легкий радостный крик.
– Посмотрите-ка! – вскричала она. – Вот один из наших изгнанников. Это один из Бюттотти. Он изображен очень похоже.
Гравюра эта изображала туземца с не особенно симпатичной физиономией; в одной руке он держал небольшой инструмент – нечто вроде кирки в миниатюре, а в другой – квадратный кусок пестрой материи.
– Этот платок – это его «румал», – пояснила мисс Воррендер. – Само собой, они не показываются с ним в публичных местах. Равным образом он не возьмет с собой и священного топорика, но во всех других отношениях он изображен вполне точно. Я много раз путешествовала с этими людьми в безлунные ночи, с «люгхами» впереди, когда иностранцы не придавали никакого значения громким «пильхау», раздававшимся повсюду. О, такой жизнью стоило пожить!
– Но что такое значит «румал», и «люгхи», и прочее? – спросил я.
– О, это наши индусские слова, – смеясь, пояснила она. – Вы не поймете их.
– Но под этой гравюрой стоит подпись: «Представитель племени Дакка». А я всегда считал Дакков за воров.
– О да, англичане все считают их такими, – согласилась она. – Конечно, Дакки – воры, но ворами считают многих, которые и не думали быть ими. Этот человек – святой человек; это, по всей вероятности, один из «гуру».