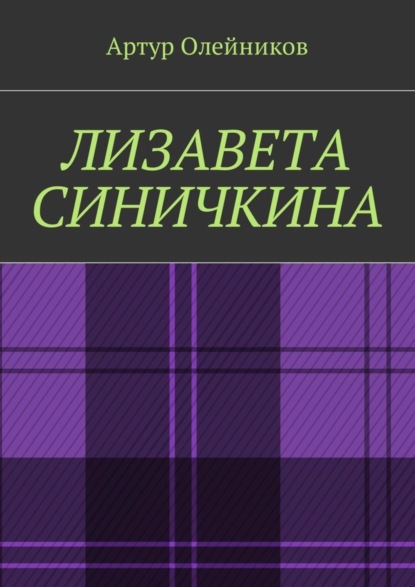По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лизавета Синичкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пусть идет. Совсем ведь измучился, – вздохнула Лиза.
– Если моего увидишь, скажи, пусть готовится. Я ему устрою, и Ткаченко скажи.
– Скажу, все передам, – и Коля со спокойной совестью скрылся за дверьми
Коля ушел, а между женщинами протекал привычный разговор, один из тех многих, что случаются в жизни так часто, что не станем придавать тому разговору значение. Савельева не могла долго усидеть на месте и уже скоро стала собираться и обещала уже скоро прийти снова. Все виделся ей ее Ковалев, нетрезвый, с растрепанными волосами, скорее всего, где-нибудь на берегу Дона, а если точнее, непременно на лодочной станции, где у Ковалева был собственный гараж и катер с мотором.
На склоне правого берега Дона сразу против проходной стекольного завода за железной дорогой начиналась та самая лодочная станция. Словно в какой-то городок холостяков за последний десяток лет превратилась лодочная станция и была единственным домом для многих одиноких рыбаков. Узкие железные ступени и железные круглые перила помогали рыбакам и их гостям спускаться к гаражам с катерами и лодками. Над гаражами были устроены железные будки – дома рыбаков с верандами, с которых открывался вид на романтический умиротворенный пейзаж левого берега Дона – песчаные полоски дикого пляжа, гнувшийся на ветру камыш, заводь с плещущей рыбой.
Ветер растреплет волосы, пропоет под ухом железную песню «товарняк», повеет прохладой с мутноватой воды, и на мгновенье забудешься – Дон. Такой Дон был в станице Аксайская в Ростове и еще на некоторых, все больше мелких, станциях, где вдоль берега по железной дороге проносились поезда и, окунувшись в донской воздух, подхватив с берега песчинки, развозили по всей России от Черного моря до Дальнего востока пейзаж вольницы казаков нижнего Дона.
Летом на стальную песню поездов и прохладу Дона Ковалев менял толстые стены казачьего дома Савельевой, и все свободное время проводил на лодочной станции, а когда просто не ходил на завод, оставляя весь мир где-то там за железной дорогой, окунаясь совсем в иную, необыкновенную жизнь рыбака-дикаря. И только перешагнув стальные сверкающие полосы железной дороги, оказавшись в месте, где все его обитали, были сродни ему по духу, Ковалев забывался. И уходил на лодочную станцию, когда вздорил со строптивой и бойкой Савельевой. Подолгу мог не приходить, но всегда возвращался, хоть мог и не вернуться, и как казак Чермаш и мужики жить на лодочной станции круглый год. Зимой греться от электрической печки, а летом спать на веранде, дыша прохладой с мутноватой воды. Жить рыбой. Резать на катере с мотором водную гладь, заплывая в богатые рыбой заводи. А если будет зимой долгий крепкий мороз, греясь водкой, дышать над лункой, выдыхая горячий, пахнущий спиртом, воздух.
С Савельевой Ковалев познакомился и в первый раз встретился на лодочной станции. Коренной ростовчанин Ковалев с каждым новым днем после развода все чаще с работы бежал не к матери в дом, а в станицу на лодочную станцию, где за удочкой или просто в компании рыбаков забывался, а утром на электричке ехал в Ростов на завод. И так несколько лет, пока местные бабы хорошо зарабатывающему по станичным меркам ростовчанину фрезеровщику не сосватали Савельеву, с домом и со всем, что нужно мужику для счастья. «Чтобы не мотался туда-сюда, и потом оба разведенные, что не попытать судьбу», – думали бабы и, недолго посовещавшись, воплотили задуманное в жизнь.
Мимо горячей яркой Савельевой нельзя было пройти стороной, как нельзя пройти мимо, чтобы не вздрогнуть, заслышав удалую казачью песню. Бедовая Савельева своим напором кипучего характера с первого взгляда, с первого жеста покорила городского Ковалева. А он по-казацки, приносивший в дом мешки рыбы, носившийся с Верой на катере наперегонки с ветром и с участием слушая бабскую болтовню, постепенно завоевал уважение и любовь Савельевой. И иногда стареющим любовникам казалось, что если бы они встретились двадцать лет назад, жизнь сложилась бы по-другому.
Как и думала Савельева, Ковалев с Ткаченко отыскались на лодочной станции.
Галя пришла и стояла тихо, приученная молчать в присутствии мужчин, и только смотрела на отворачивающегося от нее захмелевшего Ткаченко. Савельева, сама немного выпившая, стала отчитывать мужиков и натиском, и обхождением пугала подругу.
– Спалю я вашу будку. Вот увидите, спалю. Ты что, Ковалев, молчишь, воды в рот набрал? Так выплюнь, вон, ее сколько, не жалко. А тебе не стыдно у бабы на водку деньги брать? Ты давал ей деньги?! Сначала заработай, дай бабе деньги, а потом проси.
– Не жена она мне, – бросил Ткаченко, и Галя как-то вся съежилась, словно хотела от чего-то спрятаться. «Ведь и вправду не жена», – думало сердце Гали и отдавало какой-то страшной безысходностью.
– А что же ты к ней ходил?
– А что все ходят, то и я ходил!
– Ты мне поговори еще, завтра же вылетишь. Вот, деньги бабьи потратил, теперь иди и на лодке катай. А ты иди, садись вон в ту лодку, – и Савельева показывала Гале качающуюся на волнах потемневшую от времени казанку. – И пусть отрабатывает. Пусть, не облезет.
С непривычки Галя, высоко задирая ноги, чуть не упала, забираясь в лодку.
Ткаченко оттолкнул лодку и, запрыгнув, взялся за весла.
– Да, это, – кричала Савельева вдогонку набирающей скорость казанке, – катайтесь, как следует и, смеясь, заталкивала Ковалева в будку и крепко закрывала за собой двери.
Галя молчала. Ткаченко смотрел на будку Ковалева и, словно видя сквозь металлические стены, начинал разгораться, представляя, как Ковалев мнет красивую, раскалившуюся Верку, а баба извивается под ним и стонет в сладкой истоме. Как Ковалев целует ее белые груди, и как от этих поцелуев сладость стоит во рту у мужика, словно они у казачки из сахара. И Ткаченко быстрей гнал лодку на левый берег Дона на дикий безлюдный пляж и с каждым стоном Верки, словно застрявшим у него в ушах, сильней налегал на весла. И когда они наконец-то доплыли, он так бросал весла, словно они были раскалены до красна и жгли ему руки.
Задыхаясь в нетерпении, Ткаченко за руку тащил Галю из лодки на берег и, повалив на горячий песок, задирал Гале платье. Судорожно трясясь, снимал большие бабские трусы, задыхаясь от захватившей страсти. Подчиненный страсти и следуя тайным желаниям сердца, смотрел на Галю и видел перед собой красивую, недоступную Савельеву и жадно и страстно целовал живот и бедра некрасивой Гали.
А спустя каких то три дня, как Галя приехала в дом подруги, Ткаченко возненавидел нежданную гостю, что словно мешок взвалила ему на плечи бойкая красавица Вера.
«Ну, было дело, – восклицал Ткаченко. Что мне теперь, жениться на этой уродине?»
По мнению Веры выходило так, но если и не жениться, то жить до смерти. До самых последних мгновений сносить выражение влюбленной дуры, и шага чтобы не ступить одному.
Ткаченко себя проклинал, что постился, и теперь мучайся всю жизнь. Куда ни шло, с недельку-другую, на всю жизнь Ткаченко был не согласен. Ладно бы с Верой, и красивая и свой дом, а что есть у этой Гали? Другими словами, решил Ткаченко, что не бывать этому никогда. Последней каплей стал случай, который никак не выходил из головы Ткаченко и, как оно говорится, только подлил масла в огонь. Да что там подлил, так плеснул, что Ткаченко неизвестно как себя еще сдержал.
Возвращались с Дона.
Вера шла под руку с Ковалевым, Галя все равно, как собака плелась за Ткаченко. Куда он, туда и она.
Вера долго смотрела на такую жалкую неприятную картину, и, как говорится, допекло.
– Ты бы, что ли бабу под руку взял. Кавалер еще называется, – сказала Вера Ткаченко.
– Еще чего, кто она мне! – пробурчал Ткаченко.
– А я тебе говорю, возьми. Иначе, чтобы завтра духу твоего не было.
Ткаченко плюнул на землю и нехотя, рассердившись, взял Галю под руку.
И надо же такому случиться, повстречались на дороге знакомые бабы, да не то, что там какие негодные, как вот эта Галя, а все как одна, прямо картины – дородные румяные, как караваи, так бы и полакомился. Такие бабы, за которых и жизнь не жалко отдать, если, конечно, прежде рассвет позвали бы вместе встречать.
У Ткаченко аж дух перехватило.
На одну он уж давно глаз положил, соседка Веры. Не баба – огонь, рыжая с фигурой все одно гитара.
Ткаченко было трудно дышать.
– Здравствуйте, – поздоровалась Вера.
– Здрасьте, – отвечали бабы и с интересом изучали незнакомую Галю да еще под руку с Ткаченко.
– Подруга моя, Галя, – сказала Вера. Жена Кости, к мужу приехала.
Бабы удивились, помня, как Ткаченко с ними заигрывал и трепался, что холостой и никогда не был женат.
Ткаченко хотел, было, открыть рот, чтобы начать возражать.
Но Вера опередила.
– Да и детишки у них, – и засмеялась. Опоздали, бабы.
– Да больно надо, холостых полна улица! – фыркнули бабы и поспешили прочь.
Ткаченко с силой вырвался из-под Галиной руки.
– Ты, – закричал Ткаченко, на Веру.
– Что. Будешь знать, как бабам головы дурить.
– Да пошутила она, – успокаивал Ковалев.
– А ты молчи, – топнула Вера на Ковалева. Ишь, защитник выискался. Было б, кого защищать. Смотри у меня.
Ткаченко махнул рукой и пошел вперед.