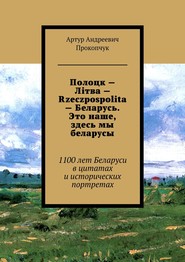По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грузинская рапсодия in blue. Воспоминания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вдохновлял нас на «дерзания» только что защитивший докторскую диссертацию, Владимир Валерьянович Чавчанидзе, которого все, в том числе и я, через некоторое время, называли просто «Вова». Кстати, это была обычная форма общения в грузинской среде. И только очень уважаемых, мало знакомых и очень пожилых людей было принято называть с прибавлением к имени «батоно» (господин – груз. яз.).
Меня «Вова» сразу же увлек своим темпераментным и остроумным изложением любого материала, фантастическими прогнозами развития нашего направления, мягкой формой общения, не фамильярной, а скорее душевной, искренней, располагающей к себе. Он как ураган проносился по комнатам нашего подразделения, вызывая у всех улыбки, и поднимал настроение. Он умел и любил поговорить и еще обладал высоко развитым чувством юмора.
В рабочей группе, в которую я попал, отражалось многонациональность города. Старший в группе, ее руководитель – Мераб Бродзели, отличался мягкой интеллигентностью и волшебными руками истинного экспериментатора. Несколько медлительный и спокойный даже в самые ответственные минуты, он был надежен, и его нельзя было сбить с намеченного им курса. Его медлительность заставляла меня вспоминать фармацевтический ярлычок на пузырьках – «перед употреблением взбалтывать», что я часто и делал, тормошил его, забегал «вперед батьки», иногда неоправданно суетился. Он, как опытный погонщик, сдерживал мои, часто неадекватные порывы. Он вызывал уважение, его внешний вид излучал уверенность, с ним было спокойно.
Гриша Гольдштейн, как и положено гениальному еврейскому молодому человеку, всегда ходил с отрешенным взором и с какой-нибудь книгой под мышкой. Через небольшой период времени я узнал, что чаще всего он так нежно прижимает к себе французский роман, обычно в оригинале. Он мало говорил, сосредоточенно молчал и время от времени выдавал невероятные идеи. Во всех серьезных научных спорах мы апеллировали к нему. По коридору института он шел, боясь кого-либо задеть или наступить на ногу, и часто краснел от неделикатности своего собеседника.
С Авиком Аязяном я познакомился немного позже, мне импонировал в нем высокий уровень специальных знаний, трудолюбие и расположенность, что позволяло легко просить о помощи в трудную минуту, и получать нужную консультацию по любым вопросам. Авик никогда не отказывал в этом.
В нашем отделе Института физики, а позже, в отделившемся от материнского тела, институте, собрались представители многих национальностей и нацменьшинств. И греки, и курды, и «татреби» (татары – груз. яз.). Под это название в Тбилиси исторически попали и персы и азербайджанцы и этнические татары. Было несколько поляков, из семей оставшихся с незапамятных времен, и абхазцы, тогда еще не противопоставляющие себя общенациональной грузинской культуре, и украинцы, оставшиеся со времен строительства царским правительством закавказской железной дороги. Были и русские, приезжавшие «усилить направление», которые, как правило, старались пробиться в руководящие слои, используя свои дипломы, полученные где-нибудь в Москве или Ленинграде, и негласную квоту по кадровому составу в республике, «спущенную» с самых высоких партийных верхов.
Новый институт, уже готов был вылупиться из старого Института физики, хотя не имел пока еще даже своего законного названия. А отдел быстро поглощал все новых и новых специалистов, вырастал под прикрытием умудренного жизнью «Элефтера», прошедшего, в частности, школу Петра Капицы и Резерфорда в Англии, и под финансовым покровительством «высоких лбов» Министерства обороны, раньше всех понявших смысл этого экзотического плода под названием «кибернетика», созревающего в переплетенных ветвях смежных дисциплин.
Наши «кибернетические» семинары стали привлекать всеобщее внимание научно-технической интеллигенции города и являлись поводом для страстных дискуссий на тему «искусственного интеллекта», «может ли машина мыслить» («голубая мечта» технарей того времени) или роли вычислительных машин в управляющих процессах, в будущем освоении космоса и т. д. Мы стали знакомиться с коллегами, или лучше, сподвижниками из других институтов, городов и республик, создавая свою «среду обитания». Характерная оценка того времени приведена в публикации, посвященной истории этого вопроса:
«В шестидесятые годы в России кибернетика была существенной частью культурного фона» – формировала общественное сознание, являлась одной из властительниц дум. Примечательно, что на обсуждении доклада «Автоматы и жизнь» академика А. Н. Колмогорова («физик») выступал не просто наследник (и сын) выдающегося лирика – А. С. Есенин-Вольпин, известный диссидент и правозащитник. Мощная просветительская функция реализовывалась энтузиастами через популярные журналы «Техника-молодежи», «Знание-сила», «Квант» (Приложение, Е.В.Злобин, РГГУ, «О некоторых проблемах генезиса информатики в России»).
К этому времени в отделе уже появилась центральная идея, выработанная в ожесточенных спорах на семинарах – создание оптической вычислительной машины, превосходящая по объему памяти и быстродействию имеющиеся электронные, зарубежные аналоги.
Я почувствовал себя в этой обстановке, как рыба в воде. Все-таки у меня была неплохая база, основа для экспериментальных работ и научных поисков – мое солидное университетское образование, мои минские профессора, преподаватели. Работа доставляла удовольствие и продвигалась во многих направлениях нашего отдела. Я стал разрабатывать перспективные элементы будущей оптической вычислительной машины, но для увязки их в работающую систему нужны были свежие идеи.
Так, вместе с коллегами, мы подошли к совершенно новой теме тех лет – волоконной оптике и жидким кристаллам. Пришлось мне заниматься и химией органических соединений для поиска носителей оптической памяти. Это было внешне красивой, эффектной разработкой и привлекало внимание «вышестоящего начальства», тем более, что мы умели придать должный вид нашим опытным образцам для демонстрации посетителям. Все продумывалось – темная комната, голубые вспышки света при нанесении информации на плоские матрицы, стирание картинки другим световым источником и т. д.
Я называл это театрализованное мелкое жульничество – «делать начальству темную». При посещении нашей «темной» Президент Академии Наук того времени – Александр Несмеянов, – долго сидел с нами в темноте, но мне показалось, что он не вполне разобрался в механизме оптического преобразования, что еще более повысило наши шансы на получение дополнительного финансирования. Кстати сказать, это была моя первая встреча с одним из «Президентов» в рабочей обстановке. И конечно, я не думал тогда, что это станет рутинным действом – встречать Президентов Академии, демонстрировать им «наши игрушки» и выбивать «денежное довольствие» для постепенно увеличивающейся команды нашего отдела, а позже и Института кибернетики Академии наук Грузинской ССР.
Кроме того, приходилось участвовать и в общеинститутских работах, так как коллектив института был небольшой. Например, весь наш отдел отбывал всеобщую «повинность» и дежурил на запуске первого атомного реактора в Грузии, расположенного в Карсанском ущелье неподалеку от Тбилиси, где и я провел несколько дней и ночей. Было тогда немного страшновато, особенно когда вдруг срабатывала аварийная сигнализация, но интересно.
Нервическое управление всей страной, шараханья в экономике и в политике из одного направления в другое, под руководством Никиты Хрущева, – это был фон, на котором бурно развивалось и наше направление, где стремительно увеличивалось число институтов, вовлеченных в этот поток. Я воспринимал это, как увлекательную игру, где часто слепой случай открывал выгодные шансы на выигрыш.
Нам здесь, в «голубом и зеленом» краю, в Тбилиси, было легче работать, мы были далеко от Москвы, нас не интересовали академические интриги. «Тяжеловесы» из президиума академии, видимо, не относились к нам серьезно, позволяя строить по своему усмотрению новое направление, еще не утвердившее себя, не имеющее пока особых претензий к руководству, не вовлеченное в вечную суету на «академическом олимпе».
Зато наш «шеф» быстро сориентировался в технологических потребностях военных, армии и флота, и интуитивно нащупал там слабое место – их желание ускорить и автоматизировать процессы принятия решения, отсутствие современных вычислительных машин с высоким быстродействием, обеспечить, как математически, так и технологически, вопросы наведения и ориентации движущихся объектов, в первую очередь, в интересах быстро развивающейся новой отрасли военной промышленности – ракетно-космической. Стали появляться у нас и высокие армейские чины.
Мы выходили в новое научно-техническое пространство, все более отрываясь от Грузинской Академии Наук. «Вова», как челнок, сновал между Тбилиси и Москвой, Тбилиси и Ленинградом, привозил, приводил специалистов из группы министерств, делающих погоду в авиационно-космической отрасли. Туда, было заметно даже для обывателя, стал смещаться центр тяжести всей народнохозяйственной тематики.
А в стране стали «почковаться» от старых новые ведомственные подразделения, новые НИИ, часто на базе разных научных направлений, отделов академических институтов. В Москве же, как обычно, шла в это же время борьба «наверху», за должности, ставки, кадры, за финансирование «отдельной строкой», поездки заграницу, за «железный занавес», почти недоступные тогда среднему научному звену.
Наконец, был образован Совет по кибернетике при Президиуме АН СССР, который возглавил легендарный академик, «инженер-контр-адмирал» Аксель Иванович Берг, что дало ему возможность воздействовать на дальнейший ход событий в науке. Кибернетика при нем становилась неким «вольным движением», направленным против идеологической заторможенности в науке.
Думаю, что постановлением об образовании первого в стране Института кибернетики в составе Грузинской Академии наук в 1960 году, мы обязаны именно ему, благодаря его участию в развитии этой новой отрасли знания, все еще воспринимавшейся у советских идеологов, как чуждое, инородное тело в стройной «марксистско-ленинской концепции» о месте человека в обществе, а именно, о месте партийного руководства в управлении этим обществом и боязни потерять это место с приходом «искусственного интеллекта», «думающих машин».
Место для нашего института было выбрано нашими «академическими богдыханами» не зря, с учетом его дальнего от Москвы расстояния, подальше, на всякий случай, от московских партийных идеологов. Так, думаю, и решил многоопытный во всех смыслах Аксель Иванович – «отец» советской радиолокации и кибернетики, немало отсидевший в ГУЛАГе, по слухам, за дворянское происхождение. По тем же слухам, дошедшим до нас, он был потомком какого-то шведского пирата, чего было достаточно в свое время, чтобы отправить его «на исправление» в лагеря.
Несколько сухих строк о нем из официального документа, хотя он остался в моей памяти навсегда немного другим и более человечным.
«Аксель Иванович Берг родился 10 ноября 1893 г. в Оренбурге в семье русского генерала шведского происхождения. Мать Акселя Ивановича была начальницей женской гимназии в Царском Селе.
В 1937 г. А. И. Берг стал начальником Научно-исследовательского морского института связи и телемеханики. В декабре 1937 г. по обвинению во вредительстве (якобы, неоправданные затраты на НИР и ОКР по созданию новой техники) А. И. Берга арестовали, два с половиной года он провёл в заключении. Там он встретился с очень интересными людьми, которых постигла та же судьба, например с К. К. Рокоссовским (будущим маршалом), А. Н. Туполевым (знаменитым авиационным конструктором), П. И. Лукирским (будущим академиком).
В 1946 г. А. И. Берга избрали действительным членом АН СССР.
В 1953—1957 гг. А. И. Берг был заместителем министра обороны СССР по радиоэлектронике. Его помощник К.Н.Трофимов в дальнейшем сыграл большую роль в организации разработок средств вычислительной техники военного назначения.
В 1955 г. в составе АН СССР был открыт Институт радиотехники и электроники (ИРЭ). А. И. Берг стал его первым директором.
Последним детищем А.И.Берга, которым он руководил в течение 20 лет, был Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» (НСК) при Президиуме АН СССР, созданный в 1959 г. решением Президиума АН СССР как координирующий орган, а в 1961 г. НСК получил статус научно-исследовательской организации АН СССР“. (подробнее – Приложение, „Доклад А. И. Берга).
Наконец сбылась «голубая мечта» нашего отдела, в конце 1960 года «батоно Элефтер» поздравил нас с выделением в самостоятельный институт и отвел нам почти целый коридор в своем Институте физики – «до лучших времен». Мы с Мерабом Бродзели и Эриком Керцманом, не ожидая начальственных благ, скинулись, купили краски, шпатлевки и всего остального, и отремонтировали сами за пару недель большую, захламленную комнату, доставшуюся нам от прежней лаборатории. Мы и раньше готовы были положить на алтарь нашей новой «религии» любую жертву. Это было наше первое собственное лабораторное помещение. Работа нам удалась – приходили из других групп завидовать нашему «храму науки».
Мы стали ожидать также отдельного здания для нового института, а еще нам «спустили сверху» дополнительные «штатные единицы» и меня перевели на должность старшего инженера с окладом 1400 рублей. Наш «Вова», утвержденный директором института, собрал всех нас, тогда еще немногочисленный отряд, и вежливо, как бы в шутку, попросил обращаться к нему «по имени – отчеству» и «без розыгрышей».
Розыгрыши практиковались у нас по каждому случаю, а зная своих сотрудников-неистребимых остряков, его предупреждение было своевременным.
Тем временем ситуация в советской науке менялась с быстротой передвижения по стране ее лидера – Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. В апреле 1961 года Никита Хрущев обвинил Академию Наук в затягивании передачи НИИ профильным министерствам и пригрозил роспуском всей Академии. В ответ президент АН Александр Несмеянов заявил: «Ну что же, Петр Великий открыл академию, а вы ее закроете». За что и был отправлен в отставку.
На смену Несмеянову пришел Мстислав Всеволодович Келдыш, выдающийся математик, который сразу же понял роль появляющихся вычислительных машин в науке, в области развития новых технологий, и смог оценить место математики в программном обеспечении ЭВМ. В его Институте прикладной математики разрабатывались первые программы для многомашинных комплексов, закладывались основы развития сетей удаленного доступа. Это был фундамент для развития современной информатики, новых информационных технологий. Келдыш возглавлял к тому же разработку теоретических моделей в интересах космических исследований. В то время он был анонимом, секретным «лицом особой важности», а пресса величала его «Главным теоретиком» в материалах, посвященных советской космонавтике, без указания его фамилии.
Все, что ни делалось «наверху», шло нам на пользу в борьбе за образование собственного института, за фонды, за увеличение финансирования. Как говорят картежники – «пошла карта». С приходом Келдыша мы получили дополнительные козыри в этой игре с властью, но наше направление неумолимо начало срастаться с военно-промышленным комплексом, внимательно присматривающим за деньгами, которые он нам начал выделять.
Работа шла у меня настолько гладко, что я решил хотя бы частично, что называется на «полставки», вернуться в спорт, поиграть по старой памяти в водное поло. Я скучал по голубой воде своего бассейна, по плаванию, быстро нашел, где размещается самый удобный для меня, расположенный в двух шагах от моего института, под трибунами старого стадиона «Динамо», бассейн, встретил там одного из игроков тбилисского «Динамо» – Крылова, с которым ранее был знаком по играм. Он стал в этом году тренировать вторую команду города – «Локомотив», я напросился к нему на тренировки и стал ходить в разное время. Иногда тренировки проходили рано утром, и я опаздывал, примерно на час, к началу работы.
В один из таких дней, пришел я в институт часам к десяти – у дверей стоял Элефтер Луарсабович и пожимал на входе руку всем опоздавшим. Пожал и мне и пригласил к себе в кабинет. Кто-то «донес» ему, что я серьезно занимаюсь спортом. Он по-прежнему ко мне благоволил, но после легкой «трепки», и дружеского напутствия на будущее, определил свой взгляд на дисциплину, а мне, для справки, сказал:
– «Я со всеми раскланиваюсь, а руку пожимаю только опаздывающим».
Мои объяснения по поводу опоздания не были приняты во внимание, и еще он заметил:
– «Артур, выбирай сейчас – или спорт или наука». Да еще присовокупил, что означает для него звание «научного сотрудника».
В вольном изложении того разговора, смысл его можно было понимать так, что есть черта, отличающая научного сотрудника от обычного человека. Эта скорее умозрительная грань, чем дисциплинарные или социальные рамки. И основное отличие человека науки от других, по его мнению, находилась в плоскости его отношения к материальному миру или, проще, к вещам.
Благославляя меня на «дальнейшие свершения», Элефтер Луарсабович сказал: – «Вот когда ты начнешь из дома уносить вещи и приносить их в институт, тогда ты и станешь настоящим научным сотрудником, ученым, истинным экспериментатором».
Этот простой критерий оценки качества научного сотрудника оказался применим во всей моей дальнейшей практике работы в академической науке. «Настоящий научный работник, ученый несет из дома в лабораторию, а не наоборот», – да, Элефтер умел находить истину. К слову, в грузинском языке есть еще одно выражение этой истины, но в другой форме, в переводе с грузинского – «за хорошее место платить надо». А лучшего места, чем быть сотрудником Института физики при «Элефтере», тогда в Тбилиси для меня не было. Есть еще одна идиома в этом древнем и образном языке: о человеке, который не любит, не справляется с работой, делом – говорят – «он место портит».
Такие народные афоризмы-истины запоминаются на всю жизнь. Можно смело сегодня утверждать, что Элефтер Андроникашвили был исключительным директором, директором и педагогом, особенно если учесть время, в котором мы находились. Он давал всем нам пример и своим элегантным европейским видом, и безукоризненным литературным русским языком, выдававшим генетическую преемственность к произнесению речей и чтению лекций – его отец был известным адвокатом еще до революции. Его личные связи, которые он всегда использовал в целях создания особого климата в институте, давали пищу нашим мыслям и заставляли «поддерживать высокий рабочий тонус», или, как сегодня любят выражаться «продвинутые» молодые люди (не очень удачный перевод с английского «advanced»), «держать планку».
Я вспоминаю приезд к Элефтеру Андроникашвили, а значит и в Институт физики, ко всем нам, в гости, Нильса Бора с сыном и невесткой. Это было для нас потрясением – поздороваться за руку с основателем современной физики, человеком, о котором я, после всех университетских курсов, размышлял, примерно, как о Ньютоне, или Аристотеле, и откровенно говоря, думал, что его уже давно нет в живых. Нильс Бор, Резерфорд, Петр Леонидович Капица – это были «сотоварищи» Элефтера Луарсабовича по большой науке. С Капицей-старшим мне еще предстояло встретиться, а с его сыном жизнь потом свела меня на много лет, но уже в другом мире, в другой научной сфере, на Дальнем Востоке, в городе – Владивостоке.
В один из ни чем не примечательных рабочих дней, в старом здании Института физики, я вскарабкался по узкой тропочке, чтобы сократить путь ведущей к зданию и начинающейся сразу у подножья скалы за мостом «Челюскинцев». Быстро проскользнув мимо стоящего у входа «батоно Элефтера», раскланивающегося со своими пунктуальными сотрудниками, я, вприпрыжку, заскочил на свой третий этаж и плюхнулся за рабочий стол. Справа от моего стола находилось высокое двухстворчатое окно, куда я часто глядел, что помогало размышлять о научных проблемах. Из этого окна моей лаборатории, как обычно, видны были зеленые склоны гор, обступающих долину Куры, уходящей куда-то в сторону Мцхета, исчезающей в голубоватой, сиреневой или сизой, в зависимости от высоты солнца и характере облачности, дымке. И вдруг, в седловине между склонами, спускающимися от перевала Зедазени с одной стороны, и предгорьем со стороны правого берега реки, я увидел только что возникшую, сияющую темным розовым светом конусообразную вершину горы, как будто плывущую в воздухе. Ее там раньше, еще несколько минут назад, не было – я люблю смотреть из окна, я бы увидел ее раньше.
Прошло несколько месяцев моей работы в институте, и каждый день я видел из этого окна ставшие привычными склоны гор, окружающие город с северной и западной стороны. И вот, как наваждение, как мираж, этим ясным прозрачным утром, возникла из пустоты неба чудо-гора. Она светилась, она разгоралась от темно-розового цвета до пурпурного, потом становилась все ярче до бело-желтого свечения. Я остолбенел от этого видения и долго просидел за столом, пытаясь понять, что же это – мираж, фата-моргана? Меня через некоторое время толкнул в бок Мераб Бродзели и сказал, «что это, во-первых, гора Казбек, во-вторых, обычное явление, хотя из нашего окна и не часто видно». Он проработал в этой лаборатории уже несколько лет и видел такое не один раз.
Вышедшее из-за горизонта, со стороны Каспия, азиатское Солнце, специально для меня, приветствовало повелителя Кавказа – гору Казбек. Сияющая сахарная шапка горы на миг еще раз вспыхнула солнечным светом, мигнула через всю долину мне на прощанье ослепительным лучом и исчезла, растаяла в далекой, сизой дымке.
В этот же день я решил, что должен это чудо рассмотреть поближе. Как это сделать, мне еще не было ясно, но я стал «собирать информацию», говорить об этом предприятии, как о своей мечте, с разными людьми – сотрудниками института, просто знакомыми, соседями.
Прошло несколько дней и выяснилось, что мой сосед по улице, к которому я часто забегал послушать что-либо из его джазовой коллекции пластинок, он же и сотрудник нашего института, работающий в отделе, если мне не изменяет память, «физики высоких энергий», – Алик Маловичко, – вхож в альпинистский городской клуб, и сам иногда участвует в разного рода альпинистских мероприятиях – восхождениях и траверсах, в том числе, и на Казбек.