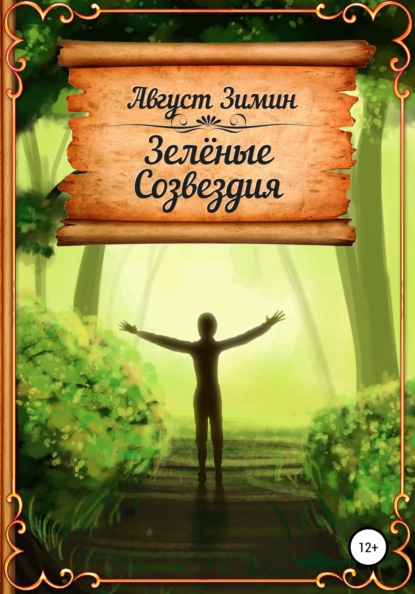По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зелёные Созвездия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я поворачиваю голову и целую надувной круг в гладкую чёрную поверхность. Пластик обжигает губы. Солнце продолжает палить. Я продолжаю дрейфовать по бескрайнему морю.
– И тебя я теперь не брошу, – обращаюсь я к мокрой кепке и сильнее нахлобучиваю её на голову. Снова обращаюсь к кругу: Извини, что поначалу испугался тебя, когда мама купила тебя. Просто ты чёрный, и на тебе нарисовали этот чёртов серый зонтик. Я боюсь зонтиков. То есть, не зонтиков, понимаешь, я боюсь Оле-Лукойе. Ты знаешь, кто это? Это такой старик, который прокрадывается к детям в комнату и наводит на них сны. У него два зонтика. Пёстрый и чёрный. Вот пёстрый он раскрывает над хорошими детьми, и они видят хорошие сны, а чёрный – над плохими, и они ничего не видят. Вот так. Ты скажешь, что старикашка-то он добрый, раз сны хорошие дарит, но я его очень-очень-очень боюсь. Наверное, потому, что когда я был маленьким, и мама читала мне эту сказку, как раз в это время позвонили с больницы и сказали, что папа умер. Папу съела какая-то болезнь. В тот вечер мама постоянно плакала, уехала, а я уснул на кровати рядом с книжкой про Оле-Лукойе. Он смотрел с картинки. Такой весёлый, в морщинках, с широкой улыбкой. А когда я уснул, мне приснился самый страшный кошмар за всю жизнь. Я уже позабыл, правда, его,но с тех пор ненавижу Оле-Лукойе.
Я перевожу дыхание и чувствую, что хочу есть.
– Я очень любил папу. Он говорил, что я красивый, самый красивый сын в мире. Как ты думаешь, я правда красивый? Хотя, ты ж меня не видишь, у тебя нетуглаз. У меня очень мягкие кудрявые волосы, такого светло-коричневого цвета. Мама говорит, что этот цвет называется русый. Спереди они короткие, а сзади у меня свисают несколько кудряшек. Они аж ниже шеи висят. Впрочем, ты это чувствуешь, наверное. А вот лицо у меня тонкое, так говорил папа. Говорит, что у меня тонкий-тонкий нос и настолько ровный, будто природа долго оттачивала своё совершенство, чтобы сделать такой. И ещё у меня тонкие губы, а вот глаза нормальные, только брови ближе к переносице выделяются, поэтому кажется, что я постоянно хмурюсь. А вообще, я очень худой, как струна. – Я хихикаю. – И смуглый. А тут приехал и стал загорать, и теперь ещё чернее. Ещё чуть-чуть, и буду шоколадным негром.
Я снова хихикаю и закрываю глаза. Кажется, я засыпаю.
***
Я просыпаюсь. Точнее, выхожу из череды смутных приятных образов – видимо, когда я задремал, мой враг детства Оле-Лукойе раскрыл надо мной пёстрый зонтик – в реальность. Вода. Я шевелюсь, и с моих губ срывается стон.
Солнце уже склонилось к горизонту, но до этого оно палило, жгло мою кожу. Все ноги и руки покрыты красными пятнами. Стоит повернуть конечностями, жгучая боль впивается в сгибы на локтях, коленях, ступнях, кистях.
Превозмогая боль, я стараюсь размяться, но становится только хуже. Я снова начинаю плакать. И сползаю внутрь круга, погружая тело под воду. Теперь на поверхности остаётся лишь моя голова и руки, как и в самом начале. Становится легче, в холодной воде ожоги болят меньше, но я всё равно плачу от безысходности.
А вдруг, пока я спал, мимо проплывал катер? Или теплоход? И меня не заметили.
Какое-то время я просто роняю слёзы, а потом успокаиваюсь, превращаюсь в безвольный кусок прострации и позволяю течению нести меня в любом направлении.
Солнце уже не печёт, оно близится к западной части горизонта. К западной!!! Я вздрагиваю и внимательно слежу за светилом. Оранжевый фонарь на сорок пять градусов левее меня. Когда мы с мамой гуляли по пляжу на закате, солнце садилось в том месте, где холмы смыкались с водой.
Что мне это даёт? Думай, Некит, думай! Тогда запад был справа, если встать по направлению к морю, сейчас – слева. Значит?
Значит?
Знаааааачит!
Если я не унёсся в воды Турции к Стамбулу, что вряд ли, мой берег справа, почти на сорок пять градусов. И до него, вероятно, ближе всего.
Я вскрикнул от восторга. Как полезно знать основы географии. Мои руки забарахтались в воде, и я двинул круг направо. На сорок пять градусов.
***
Я хочу есть. А ещё больше хочу пить. Очень-очень! Солнце коснулось горизонта, я гребу уже несколько часов. От работы устаю, и голод напоминает о себе. Какая идиотская ирония: вокруг тонны воды, но я не могу найти и стаканчика той, что нужна мне.
Замечаю пересохшие губы. Смачиваю их в воде, потом засасываю в себя глоток моря, споласкиваю рот и выплёвываю. На языке тоже пустыня. Теперь нёбо увлажнилось, но в горле появился осточертевший привкус соли.
Я со смертной тоской наблюдаю, как круг солнца медленно погружается в воду. Чёрт возьми, от одной только мысли, что я проведу ночь в море, тошнило, а страх начинал шептать: не выживешь. И море подпевало: какой упрямый гадёныш. Всех сцапали, а он ещё сопротивляется. Но погоди-погоди, мы тебя достанем!
Приближение ночи убивает последние дольки оптимизма, и я начинаю грести с удвоенной скоростью, но очень скоро выдыхаюсь и повисаю на круге безвольной куклой. Сердце стучит в области подбородка, лёгкие качают воздух ещё чаще.
Я ХОЧУ ПИТЬ!!!
– Тварь!!! – кричу я на море, на небо, медуз, что томно проплывают подо мной.
А потом начинаю во всё горло скандировать: ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! СОООООС!!!
На уроках ОБЖ нас учили разным выживаниям, я даже помнил некоторые, но везде то нужно зеркало, то развести костёр. Никто не предполагает ситуацию, когда тебя окружает вода, а из вещей у тебя только грёбаный круг
(…извини, брат, я не хотел…)
и одежда: шорты, футболка, кепка, чёрт, ПРОСТО ТРЯПКИ!
Голос срывается. Солнце скрывается за горизонтом, но пока что светло, и мне нужно добраться до берега или хотя бы какого-нибудь теплохода дотемна. Никита, соберись, вот твоя установка! Вперёд!
Я снова гребу. Я выберусь из этой чёртовой воды до наступления темноты! Я СМОГУ!
***
Наступила ночь.
Я не знал, что такое ночь посреди бескрайней воды и как это страшно. Гуляя в течение недели по пляжу после наступления темноты, я останавливался на берегу и смотрел в темноту. Нет, не в море, а именно – В ТЕМНОТУ. Никакого горизонта. И нет вовсе моря, просто бескрайняя адская чернота. Но тогда позади сверкали огни кафе, играла музыка, где-то на лавочке перед витриной мама смеялась с новыми крымскими подругами, а я стоял босиком на песке, и от одной мысли, что шагну в чёрную воду хоть по щиколотку, кидало в холод. Сейчас позади меня не сияют огни, и Григорий Лепс не поёт про рюмку водки на столе.
Всюду лишь чернота, и я благословляю звёзды, а ещё огрызок луны, который серебристым пятном искрится на спокойной глади моря. На какую-то секунду я даже забываю страхи и восхищаюсь. Боже, как же красиво.
И тишь, лишь слабый-слабый ветерок качает круг, и волны сонно шепчут: ты умрёшь… ты умрёшь…
Слёзы катятся по щекам, и я улыбаюсь. Откидываюсь на круг, закрываю глаза и тихо произношу:
– Покааааа.
Покаааааа, покаааааа, – ласково шелестит ветерок и ласкает меня.
– Да-да, я умираю, – говорю.
Умираааай, умираааай, – снова с любовью поёт море.
– И вам меня не жалко? – спрашиваю осторожно, но ветер и море уже ничего не отвечают.
От голода хочется спать, и я вновь проваливаюсь в сон, предварительно выбравшись на Круг.
***
Я вижу сны наяву. Правда-правда. Это кошмары. Куполообразный амфитеатр с глиняными стенами. Под потолками висят клетки, и в каждой сидит ребёнок примерно моего возраста, а кто и помладше.
И в то же время я ощущаю холод воды, лижущей мои ноги.
Ребята улыбаются мне. Улыбка и блеск глаз – единственное, что можно разглядеть на их бледных, почти высохших лицах.
– Где я? – спрашиваю.
Улыбки исчезают. Мальчишки и девчонки прижимают пальцы к губам, и под куполом амфитеатра повисает шелест осторожного тсссссс.
Глаза-звёздочки устремляются вниз, и я тоже смотрю туда. Пола амфитеатра не видно, его пожрала тьма. И она будто живая, в ней что-то зашевелилось.
– Он проснулся, проснулся… – верещат детские голоса в клетках.