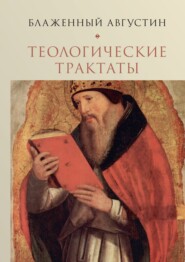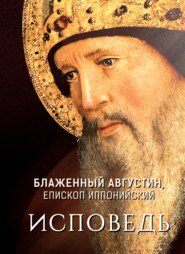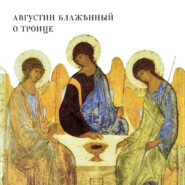По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Об истинной религии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не стану защищать данное определение, ибо не я его и высказал. От тебя же я хочу услышать ответ на следующее: полагаешь ли ты, что Альбицерий знал истину?
– Полагаю.
– Значит, знал лучше твоего мудреца?
– Никоим образом, – отвечал Лиценций, – ибо ту истину, которую ищет мудрый, никогда не сможет постигнуть не только сумасбродный ворожей, но и сам мудрец, пока живет еще в этом теле. Но сама эта истина такова, что лучше ее искать, и не находить, нежели иную какую обрести.
– Чтобы справиться с подобными изысками, – говорит Тригеций, – я вынужден прибегнуть к помощи определения. Если прежнее определение показалось тебе неправильным потому, что охватывает большее, чем должно, то попробую его уточнить: мудрость – знание вещей человеческих и божественных, но только таких, которые относятся к жизни блаженной.
– Есть и там мудрость, – возразил Лиценций, – да только не одна, и если прежнее определение как бы захватывает чужое, то это – упускает и свое. Первое можно назвать жадным, а второе – глупым. Ибо мудрость (попробую дать и свое определение) – не одно лишь знание, но и тщательное исследование вещей человеческих и божественных, относящихся к блаженнойжизни. А если угодно будет тебе разделить это определение на части, то та часть, которая говорит о знании, относится к Богу, а та, что об исследовании, – к человеку. Той мудростью блажен Бог, а этой – человек.
– Выходит, – сказал Тригеций, – твоего мудреца следует пожалеть, ибо он понапрасну теряет свой труд!
– Почему же напрасно, – заметил Лиценций, – когда он ищет с такой выгодой? Ведь уже только потому, что он ищет, он мудр, а чем он мудрее, тем блаженней, поскольку все больше и больше освобождает на своем пути свой ум от телесных тенет и, сосредоточиваясь в самом себе, не позволяет терзать себя различным похотям, но всегда в спокойном созерцании обращается к себе и к Богу, чтобы и здесь разумно воспользоваться тем блаженством, которое мы выше признали, и в последний день жизни оказаться подготовленным получить то, к чему особенно стремился и, испытав в полной мере блаженство человеческое, насладиться по заслугам и блаженством божественным.
Заключение
9. Тут, вижу, Тригеций задумался надолго, и говорю:
– Уверен, что, поразмыслив, Тригеций найдет немало доводов против любого из твоих положений. Посуди сам: мы рассуждаем о блаженной жизни, блаженный же необходимо должен быть мудрым, так как глупость (в чем согласятся с нами даже глупцы) – несчастье. Тригеций заявил, что мудрый должен быть совершенным, а таковым никак нельзя считать того, кто истину еще только ищет. Значит, ищущий еще не блажен. Когда ты попытался сослаться на величие авторитета, он поначалу стушевался перед именем Цицерона, но тотчас оправился и, проявив благородство духовной свободы, возвратил себе утраченные было позиции и спросил, считаешь ли ты совершенным того, кто еще только ищет. Ход его мысли был очевиден: если ты с этим согласишься, он вновь возвратится к самому началу и попробует доказать, что совершенен тот человек, который строит свою жизнь по законам разума, откуда сделает вывод, что блаженным может быть только совершенный. Ты, однако, заметил ловушку и назвал совершенным тщательного, т. е. совершенного исследователя истины. Таким образом, ты стал защищаться определением Тригеция, согласно которому блаженна жизнь того, кто живет по законам разума. Потеряв свою первоначальную опору, как бы лишившись убежища, ты уж было совсем проиграл спор, но, получив временную передышку, решил изменить тактику и защищаться тем же, чем и любимые тобой академики, чье мнение ты отстаиваешь, а именно определением заблуждения. Затем ты перешел к определению мудрости, причем твои доводы были столь хитроумны и коварны, что, наверное, разгадать и опровергнуть их не смог бы даже твой помощник Альбицерий. Тригеций же, сохраняя бдительность, сумел настолько убедительно им противостоять, что, казалось, совсем бы тебя уничтожил, если бы ты, в заключение, не подкрепил себя новым определением, согласно которому человеческая мудрость состоит в исследовании истины, каковое ведет к душевному покою, рождающему блаженную жизнь. Будет ли он отвечать на это, или нет – дело его; я же полагаю, что мы уже достаточно занимались данным вопросом и, потому, попробую закрыть его несколькими словами.
Решив побудить вас исследовать истину, я захотел сперва выяснить, высоко ли вы ее цените. Высказанное всеми участниками состязаний высокое к ней уважение меня, вашего наставника, не может не обрадовать. Ведь желая быть блаженными, мы должны либо познать истину, либо (по определению Лиценция) тщательно ее исследовать. А это значит, что отныне истина будет главным предметом наших устремлений.
На этом мы и завершим наш диспут и, записав его, отправим твоему, Лиценций, отцу, которого я искренне желаю расположить к занятиям философией. Надеюсь, прочитав это письмо, из которого он узнает, что сын его настолько в ней преуспел, он и сам воспламенится к подобного рода занятиям. Ты же, Лиценций, раз уж тебе так нравятся академики, приготовь к их защите более сильные аргументы, ибо в следующий раз я намереваюсь взяться за них всерьез.
Тут нам сообщили, что обед готов, и мы поспешили к столу.
Книга вторая
1. Если бы из безусловно правильного утверждения, что человек, не занимающийся науками и не интересующийся познанием истины, не может быть мудрым, необходимо следовало, что ищущий истину непременно ее находит, то, конечно, вся ложь академиков, их упрямство и своенравие, а, иногда, как мне кажется, и искренние заблуждения, характерные для их эпохи, были бы похоронены вместе с их временем, вместе с телами тех же Карнеада и Цицерона. Но, вследствие ли различных житейских волнений (столь известных тебе, Романиан), или же какой-то умственной оцепенелости, или из-за безрассудства, а, возможно, отчаявшись истину найти (ведь мерцание мудрости не так легко зрится умами, как этот свет – глазами), или, наконец, в силу общего заблуждения народов, следуя которому люди, пребывая в ложном убеждении о найденной будто бы ими истине, и не ищут ее тщательно – если вообще ищут, и отвращаются от желания искать, происходит то, что знание ее достигается редко и немногими. Потому-то оружие академиков, когда с ними приходится бороться, кажется непобедимым, причем не только мужам посредственным, но остроумным и хорошо образованным. Поэтому, как против волнений и бурь фортуны мы должны запасаться веслами всевозможных добродетелей, так преданно и благочестиво нам следует молить о божественной помощи, чтобы постоянное стремление к упражнению в полезных науках удерживало правильный курс, с которого не заставил бы уклониться никакой случай, препятствующий войти в безопасную и приятную гавань философии. Это – главная твоя проблема; из-за этого я о тебе и беспокоюсь; поэтому же не перестаю я ежедневно молить о попутных тебе ветрах. Молю же я саму Силу и Мудрость верховного Бога. Ибо что Она, как не Сын Божий, о котором учат нас таинства.
Но ты можешь помочь моим молитвам, если приложишь и сам вместе с нами свое старание не только обетами, но и доброй волей, и той естественной высотой твоего ума, ради которой я ищу тебя, которой наслаждаюсь, которой всегда удивляюсь, которая в тебе, – о, несчастье, – заволакивается, как молния – облаками частных дел и скрывается от многих, почти от всех, но от меня и от твоих ближайших друзей она укрыться не может. Мы часто не только явственно слышали твои громовые раскаты, но и видели некоторые блистания, свойственные молниям. Ибо кто, – чтобы умолчать до времени об остальном, – кто, говорю, так неожиданно когда-нибудь загремел и блеснул таким светом ума, чтобы под одним мощным натиском разума, под своего рода молнией воздержания, в один прекрасный день навсегда умерла похоть, накануне самая необузданная? Итак, неужели никогда более не пробьется наружу эта сила, не обратит в ужас и оцепенение многих отчаявшихся, и, проговорив на земле как бы некие знамения будущего, снова отбросив тяготу телесную, не возвратится на небо? И не напрасно ли все это Августин сказал о Романиане? Нет, этого не допустит Тот, кому я отдался всецело, кого теперь я начал снова узнавать.
2. Итак, приступи со мною к философии. В ней есть все, что обыкновенно удивительным образом возбуждает тебя, часто грустного и сомневающегося. В тебе я не боюсь встретить ни нравственной беспечности, ни умственной тупости и лени. Ибо, когда удавалось нам воспользоваться некоторым отдыхом, кто оказывался бодрее тебя в речах, кто проницательнее? Неужели же я не отплачу тебе благодарностью? Разве я не в долгу перед тобой? Бедного юношу, который шел для занятий наукой в чужую сторону, ты принял в дом на содержание, и что еще важней – в расположение душевное. Сироту, потерявшего отца, ты утешил дружбой, одушевил увещаниями, поддержал помощью. В самой муниципии нашей покровительством, дружбой, знакомством с домом твоим ты сделал меня почти одинаково с тобою знаменитым и знатным. А когда я возвращался в Карфаген для занятия более почетной преподавательской кафедры и, скрывая эту новость от других, поделился ею с тобой, то, хотя по присущей тебе любви к родине (ибо там я уже преподавал) некоторое время ты и удерживал меня, однако потом, не будучи в состоянии победить стремления юноши к тому, что казалось ему лучшим, с удивительной кротостью благорасположения обратился из отговаривающего в помощника. Ты снабдил меня в дорогу всем необходимым. Да и там ты, который охранял колыбель и как бы гнездо моих научных занятий, поддержал и первые мои опыты, когда я осмелился летать. Даже когда я, в твое отсутствие и без твоего ведома отплыл по морю, ты нисколько не рассердился за то, что я по обыкновению не посоветовался прежде о том с тобой, и остался верен нашей дружбе; и тебя не столько волновали оставленные на глазах твоих учителем дети, сколько тайные стремления и чистота моего сердца.
Наконец, если я достиг хоть какого-нибудь покоя; если избежал оков излишеств и прихотей; если, сложив с себя тяготы мертвых забот, я перевожу дух, прихожу в чувство, возвращаюсь к самому себе; если ищу с особым старанием истину; если начинаю уже находить ее; если надеюсь, что достигну самого высшего ее предела – то это ты воодушевил меня; ты дал мне толчок; ты это сделал, Романиан! А чьим ты был служителем, я провижу пока более верой, чем понимаю разумом. Ибо когда я лично излагал тебе внутренние движения моей души и часто уверял, что никакая фортуна не кажется мне счастливее той, которая дает досуг для философствования, что нет более блаженной жизни, чем жизнь, посвященная философии, но что сам я связан и обязанностями по отношению к родным, которые зависят от исполнения мною моего долга, и множеством нужд, рождаемых или ложным стыдом, или безвыходной бедностью родных, – ты пришел в такой восторг, так воспламенился святым желанием этой жизни, что сказал, что если бы ты каким-либо образом сбросил с себя оковы известных докучливых тяжб, то разбил бы и мои оковы, сделав меня участником в своем имуществе.
И после того, как, придав нам сил, ты оставил нас, мы никогда не переставали жаждать философии и не думали решительно ни о чем другом, кроме той жизни, о которой решили и согласились между собой. Действуя в этом направлении постоянно, (хотя действовали и с недостаточной твердостью), мы думали однако, что трудились изрядно. И так как не было еще того пламени, которое, разгоревшись, впоследствии охватило нас, – мы считали величайшим пламенем то, которым лишь слегка согревались. Когда же случалось неожиданно, что некоторые полные содержания книги, обдавая нас, как говорит Цельсии, благовониями Аравии, оросили мельчайшими каплями драгоценнейших масел этот огонек, – они раздули пожар невероятный. Да, Романиан, невероятный и неожиданный даже для меня самого! Какой тогда почет, какая пышность и желание пустой славы, какая, наконец, отрада и привязанность этой смертной жизни могла тогда иметь значение для меня? Я совершенно весь и вдруг возвратился в самого себя. Только, признаюсь, я оглянулся, как бы с дороги, на ту религию, которая внушена была нам с детства и проникла в самую глубину души, но привлекала меня к себе без моего сознания. И вот, колеблясь и торопливо, как бы в замешательстве хватаю я апостола Павла. Нет, говорю я, они не имели бы в действительности такой силы и не жили бы так, как они, несомненно, жили, если бы их писания и правила противоречили бы этому великому благу! И я перечитал его всего с глубочайшим вниманием.
Тогда, как ни мал был озаривший меня свет, философия явилась мне в такой красоте, что если бы я мог показать ее, не говорю уже тебе, который и не зная ее, всегда к ней влекся с пламенным желанием, но и самому врагу твоему, который не столько приучал тебя к ней, сколько отвлекал, – то и он, отвергнув и забыв и теплые воды, и увеселительные загородные места, и изящные и блестящие пиры, и домашних пантомимов, и все наконец, что сильно влечет его к каким бы то ни было удовольствиям, полетел бы навстречу ее прелестям с любовью нежной и святой, удивленный, взволнованный желанием, охваченный страстью. Ибо есть и у него, в чем нужно признаться, некоторая душевная красота, или лучше – как бы вверенные ниве семена красоты, которые, в своих усилиях прорасти в истинную красоту, пускают свои побеги извивисто и безобразно между шероховатостью пороков и тернием ложных мнений, но все же не перестают пробиваться, и тем немногим, кто всматривается в чащу зорко и внимательно, дают себя замечать. Отсюда-то известное его гостеприимство; отсюда-то в его пиршествах множество приправ радушия; отсюда самое изящество, блеск, высшая степень приличия во всем, и во всем разлитая тонкая наружная вежливость.
3. Это на вульгарном языке называется филокалией. Не пренебрегай предметом из-за вульгарности названия. Ибо филокалия и философия названы почти одинаково, и представляются, да и в действительности, – во многом родственны друг другу. Что такое философия? – любовь к премудрому. А что такое филокалия? – любовь к прекрасному. Не веришь? – справься у греков. Ну, а что такое мудрость? Разве она не есть истинно-прекрасное? Выходит, философия и филокалия – сестры, и родились они от одного и того же отца; но хотя вторая совлечена силками похоти с неба и заперта простонародьем в клетку, однако самое ее имя напоминает нам, что не следует спешить ее осуждать. И ее-то, опозоренную, лишенную крыльев, в нужде, свободно парящая сестра узнает часто, но освобождает редко. Филокалия и не знала бы, откуда ведет свой род, если бы не философия. Всю эту басню (видишь, как я неожиданно сделался Эзопом!) Лиценций сообщит тебе в более приятном виде, в стихах, ибо он поэт почти первостепенный. Итак, этот твой враг, если бы, полечив и раскрыв глаза, смог увидеть истинную красоту, будучи любителем только ложной, – с каким наслаждением он приник бы к лону философии! А встретив там тебя, с какими истинно братскими объятиями он поспешил бы к тебе навстречу! Ты удивляешься этому и, может быть, смеешься. А если я поясню это соответственно высказанному положению? Что, если бы он мог услышать, по крайней мере, голос философии? Удивляйся, пожалуй, но не смейся и не отчаивайся. Поверь мне, что отчаиваться не следует ни за кого, а за таких менее всего. Есть достаточно примеров тому, как этот род пернатых легко ускользает, улетает к великому удивлению многих заключенных.
Но возвратимся к нашим делам. Начнем философствовать, Романиан. Скажу тебе приятную новость: твой сын уже начал занятия философией. Я его сдерживаю, чтобы изучив предварительно необходимые науки, он приобрел побольше силы и твердости. За свое же знакомство с этими науками, если я хорошо тебя узнал, ты не бойся. Тебе я желаю только свободного воздуха. Ибо что могу сказать я о твоих природных дарованиях? Если бы они не были так редки в людях, как они несомненны в тебе! Останется два затруднения и препятствия к открытию истины – но и относительно них я не испытываю особых опасений касательно тебя. Я хочу, чтобы ты не презирал себя и не отчаивался в возможности ее найти, или не подумал, что ты уже нашел ее. Если в тебе есть первое, то его может устранить последующее состязание. Ты ведь частенько сердился на академиков, – сердился тем более, чем менее их изучил, но и тем охотнее, чем с большей любовью устремлялся к истине.
Итак, с твоего соизволения, я вступлю в состязание с Алипием и легко заставлю тебя убедиться в том, в чем хочу, по крайней мере как в вероятном. Ибо самой истины ты не увидишь, пока всецело не посвятишь себя философии. Что же касается второго, т. е., что ты можешь воображать, что нашел что-нибудь, хотя и оставил нас ищущим и сомневающимся, то если и закралось в твою Душу какое-либо суеверие, оно будет, конечно, отброшено, как только я пошлю тебе некое состязание между нами “О границе”[1 - De Regione, не дошедшее до нас сочинение блаж. Августина.], или как только побеседую с тобою лично.
В настоящее время я только и занимаюсь тем, что очищаю себя самого от ложных и пагубных мнений. Поэтому не сомневаюсь, что мне лучше, чем тебе. Есть лишь одно, в чем я завидую твоей фортуне, – что ты один пользуешься моим Люцилием. Но, может быть, завидно и тебе, что я назвал его моим? Но зачем, однако же, мне просить тебя, чтобы облегчил ты мою тоску о нем? Попроси за меня сам себя, потому что это твой долг. Я же скажу вам обоим: остерегайтесь считать себя знающими что-либо кроме того, что вы изучили по крайней мере до такой степени, до какой знаете, что один, два, три и четыре, сложенные вместе, дают в сумме десять. И, вместе с тем, берегитесь прийти к мысли, что вы в философии истины не узнаете, или что она не может никоим образом быть познана. Поверьте мне, или лучше Тому, Кто говорит: “Ищите и обрящете” (Мф. VI, 7), что в познании не следует отчаиваться, и что истина может явиться яснее, чем вышеприведенные числа. Теперь приступим к предложенному. Немного поздно стал я опасаться, чтобы это начало не превысило допустимой меры, и опасаться не без основания. Ибо мера, без всякого сомнения, божественна. Но она обольстила меня, потому что приятно вела. Буду осмотрительнее, когда сделаюсь мудрым.
Состязание первое
4. После предыдущего разговора, изложенного в первой книге, мы в продолжении почти семи дней диспутами не занимались, хотя перечитали и разобрали только три книги Вергилия. Однако же при этих занятиях Лиценций до такой степени увлекся изучением поэзии, что мне показалось необходимым несколько попридержать его. Ибо отвлекать себя от этого занятия каким-либо другим предметом он дозволял уже неохотно. Впрочем напоследок, когда я, насколько мог, восхвалил свет философии, он без принуждения приступил к рассмотрению отложенного нами вопроса об академиках. По счастью выпал такой светлый и погожий день, что, казалось, он только для того и был создан, чтобы светло успокоить наши души. Итак, мы встали в тот день пораньше и некоторое время провели с селянами, как того требовали хозяйственные нужды и само время года.
Затем Алипий сказал:
– Прежде чем услышу ваш спор об академиках, я попрошу прочитать мне ту вашу речь, которая была закончена в мое отсутствие, ибо в противном случае, так как повод к настоящему состязанию возник оттуда, я могу или ошибиться, или затрудниться в понимании сути дела.
Когда это было сделано и мы увидели, что на это ушло почти все дополуденное время, мы решили возвратиться с поля домой. При этом Лиценций сказал:
– Прошу тебя, не сочти за труд вкратце повторить мне до обеда мнение академиков во всей его полноте, чтобы я не упустил из него чего-либо, что могло бы сослужить мне добрую службу.
– Изволь, – говорю, – и тем охотнее, что иначе, занятый этой мыслью, ты будешь плохо обедать.
– Ну, – засмеялся он, – на этот счет ты можешь быть покоен: я часто замечал, что многие, а особенно мой отец, чем больше озабочен, тем плотнее ест. Да ты сам, когда я размышлял над стихотворными метрами, разве заметил хоть раз, чтобы моя озабоченность оставляла стол нетронутым. Я и сам, признаться, удивляюсь: как это выходит, что мы с особым аппетитом налегаем на еду именно тогда, когда душа устремлена к другому? И как объяснить, что когда и руки, и зубы наши заняты, душа над нами властительствует?
– Выслушай лучше, – говорю я, – сведенья об академиках; потому что иначе, занятый своими метрами, ты будешь не только в пище, но и в вопросах без метра[2 - Игра слов: метр – metrum, означает и стихотворный метр, и меру вообще.].
Если же я что-либо скрою в пользу своего мнения, пусть уличит меня Алипий.
– С твоей стороны нужна полная добросовестность, – заметил Алипий, – потому что если бы пришлось опасаться, что ты что-нибудь скроешь, то мне с трудом удалось бы уличить того, кто меня всему этому и обучил. Кроме того, я нисколько не сомневаюсь, что побуждения к раскрытию истины лежат для тебя не в желании победы, а в сердце твоем.
5. – Поступлю добросовестно, – говорю я, – так как ты вправе этого требовать. Академики полагают, что человек не может достигнуть познания только тех вещей, которые относятся к области философии (Карнеад утверждал, что об остальном он не заботится); тем не менее, человек может быть мудрым, и все дело мудрого они (как и ты, Лиценций, утверждал в прежней речи) видели в изыскании истины. Отсюда следовало, что мудрый не доверяет ничему: ибо он необходимо заблуждался бы (что со стороны мудрого преступно), если бы доверял вещам сомнительным. А что все сомнительно, они не только говорили, но и подтверждали многочисленными доказательствами. Положение, что истины постигнуть нельзя, они вывели из известного определения стоика Зенона, что за истину можно принять то, что так воспринялось душою оттуда, откуда было, как не могло воприняться оттуда, откуда не было. Короче и яснее это выражается так: истина может быть познаваема по тем признакам, каковых не может иметь то, что ложно. Они употребили все свои усилия, чтобы доказать, что распознать это решительно невозможно. Отсюда и выдвинуты были в защиту подобного учения разногласия философов, обманы чувств, сны и галлюцинации, всевозможные софизмы. А так как от того же Зенона они узнали, что нет ничего более недостойного, чем мнение, то и построили весьма лукаво такое положение: если-де познать ничего нельзя, а мнение весьма недостойно, то мудрый ничего никогда не станет утверждать.
Это возбудило против них большую ненависть. Казалось совершенно естественным, что не станет ничего делать тот, кто ничего не утверждает. Казалось, что академики изображали своего мудреца, которого считали ничего не утверждающим, всегда спящим и уклоняющимся от исполнения любых обязанностей. Дабы избежать этого, они ввели понятие вероятного, что называли также истиноподобным, стали утверждать, что мудрый никоим образом не перестает исполнять обязанности, так как знает, чему следовать, но истина-де скрывается от него или потому, что заслонена некоторым естественным мраком, или потому, что не выделяется из множества подобных вещей. Впрочем, они называли великой деятельностью мудрого и самое воздержание, и как бы колебание в доверии. Мне кажется, что я изложил коротко все, как ты, Алипий, и желал, и ни в чем не отступил от твоего требования, т. е. поступил, как говорится, добросовестно. Если же сказал не так, как оно есть, или чего-то не сказал, то сделал это невольно. То добросовестно, что высказывается по лучшему разумению. Человек должен смотреть на человека обманувшегося как на такого, которого следует учить, а на обманывающего как на такого, которого следует опасаться: первый из них требует доброго учителя, а последний – осторожного ученика.
Тогда Алипий сказал:
– Я очень благодарен тебе, что ты и Лиценция удовлетворил, и с меня снял тяжелое бремя. Ибо не столько следовало опасаться тебе что-нибудь недосказать ради испытания меня (ибо как и могло это быть иначе?), сколько мне, если бы в чем-нибудь оказалось необходимым уличить тебя. Теперь же, будь столь любезен, объясни и то, чего недостает не столько вопросу, сколько самому спрашивающему: в чем отличие новой Академии от древней?
– Признаюсь, – ответил я, – это скучная вещь. Ты окажешь мне благодеяние (ибо я не могу отрицать, что то, о чем ты упоминаешь, относится к делу), если, пока Я немного отдохну, потрудишься различить при мне эти школы и объяснишь происхождение новой Академии.
– Я подумал бы, – улыбнулся он, – что ты решил отбить охоту от обеда и у меня, если бы не считал тебя более перепуганным недавно Лиценцием, почему его требование и заставило нас распутать ему именно до обеда все, что есть в этом запутанного.
Но когда он хотел продолжать, наша мать так настойчиво стала звать нас к обеду, что говорить уже было некогда.
Состязание второе
6. Отобедав, мы возвратились на луг. Алипий сказал:
– Повинуюсь твоему приговору и не смею отказываться. И если ничто от меня не ускользнет, я буду благодарен за это как твоему учению, так и своей памяти. Если же я случайно в чем ошибусь, ты исправишь ошибку, чтобы и в будущем я не боялся подобного рода поручений. По моему мнению, разрыв не столько произошел у самой новой Академии с древней, сколько спровоцирован стоиками. Разрывом не следует еще считать то, что потребовалось разрешить и подвергнуть обсуждению новый вопрос, внесенный Зеноном. Мысль о невозможности адекватного восприятия не без основания считается принадлежащей умам и древних академиков, хотя, конечно, тогда она не считалась столь принципиальной. Доказать это можно, сославшись на авторитет самого Сократа, Платона и других древних, которые думали, что они до тех лишь пор могли считать себя застрахованными от заблуждений, пока слепо не доверялись впечатлениям; впрочем, нарочитых рассуждений об этом предмете они в свои школы не ввели и никогда не выдвигали на первый план вопроса, может или не может быть воспринимаема истина. Когда же Зенон поставил его резко и ново и стал утверждать, что ничего нельзя познать, кроме того, что будет настолько истинно, что позволит отличить себя от ложного очевидно несходными с ним признаками, и что мудрый не должен подчиняться установившимся мнениям, – тогда, услыхав об этом, Архизелай стал отрицать возможность для человека открыть что-либо в этом роде, а, вместе с тем, и допустимость вверять свою жизнь пагубному руководству мнения. Отсюда он вывел и заключение, что доверять ничему не следует.
Но когда дело обстояло так, что древняя Академия казалась скорее усилившейся, чем ослабленой в результате нападок, явился слушатель Филона Антиох, который, будучи по мнению некоторых более любителем славы, чем истины, вызвал враждебное столкновение мнений той и другой Академии. Он говорил, что новые академики пытаются ввести нечто необычное и совершенно чуждое образу мыслей древних. Он ссылался на свидетельства древних физиков и других великих философов, нападал и на самих академиков, которые утверждали, что следуют истиноподобному, хотя признавались, что самой истины не знают. Собрал он и много других доказательств, которые я не считаю нужным приводить в данное время. Более же всего он отстаивал мысль, что мудрый может воспринимать истину. Таково, по моему мнению, было разногласие между новыми и древними академиками. Если это было иначе, я попрошу тебя ознакомить Лиценция, да и всех нас с этим предметом более обстоятельно. А если было так, как я сумел передать, то продолжите начатое состязание.
7. Тогда я спросил:
– Насколько удовлетворяет тебя, Лиценций, наша более длинная, чем я ожидал, речь? Ты слышал, каковы твои академики?
Он, скромно улыбаясь и несколько взволнованный этим обращением к нему, отвечал: