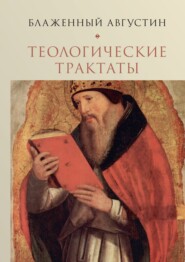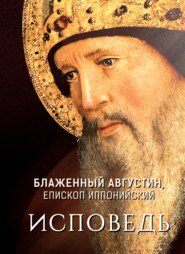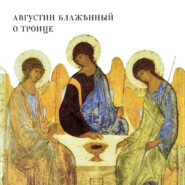По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Об истинной религии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Итак, ты утверждаешь, – говорю я, – что фортуна необходима имеющему любовь к мудрости, но в отношении к мудрому это отрицаешь.
– Делу не вредит повторение того же, – отвечал он, – но и я, в свою очередь, спрошу тебя: думаешь ли ты, что фортуна чем-либо содействует к своему собственному презрению? Если ты думаешь так, то я скажу, что жаждущий мудрости всячески нуждается в фортуне.
– Думаю, что именно благодаря ей он сделается таким, что будет в состоянии презирать ее; и это не представляет никакой несообразности. Ибо точно так же, когда мы малы, нам необходимы материнские сосцы, которые делают так, что после мы без них можем жить и здравствовать.
– Наши мнения, – отвечал он, – если мы друг друга понимаем, совпадают. Но кому-нибудь, может быть, кажется необходимым точнее обозначить, что как фортуну, так и сосцы заставляют нас презирать не сами сосцы или фортуна, а нечто другое.
– Не велик труд, – говорю я, – употребить и другое сравнение. Как никто не может переплыть Эгейское море без корабля, или какого-либо иного перевозочного средства, или вообще (не исключая и самого Дедала) без каких-либо приспособленных к этому орудий, или без какой-либо сокровеннейшей силы, хотя бы, предполагая достигнуть только этого, он готов был бросить и презреть все то, посредством чего перебрался, так точно и всякому, кто пожелал бы достигнуть гавани мудрости и стать на твердую и спокойную почву, по моему мнению необходимо для достижения желания иметь фортуну, потому что он не будет в состоянии это сделать, если будет, к примеру, слеп и глух, а это находится во власти фортуны. Но когда он достиг этого, то хотя бы и казался нуждающимся в некоторых вещах, относящихся к телесному здоровью, несомненно нуждается в них не для того, чтобы быть мудрым, а для того, чтобы жить между людьми.
– А по моему мнению, если кто слеп и глух, тот даже вправе презирать и изыскание мудрости, и самую жизнь, ради которой мудрость ищется.
– Однако, коль скоро наша жизнь находится во власти фортуны, и так как только живой человек может быть мудрым, то не следует ли признать, что нужно ее покровительство, чтобы нам дойти до мудрости?
– Но если мудрость, – заметил Алипий, – необходима только живущим, а как только жизнь завершена, в мудрости нужды более никакой нет, то в отношении к продолжению жизни и фортуны не боюсь нисколько. Ибо желаю мудрости постольку, поскольку живу, а не постольку хочу жить, поскольку желаю мудрости. Поэтому, если фортуна отнимет у меня жизнь, она уничтожит и причину искать мудрость. Итак, я не имею ничего, из-за чего бы, чтобы быть мудрым, я желал бы покровительства фортуны или страшился бы ее препятствий. Ну, что скажешь на это?
– А разве ты не думаешь, что любящему мудрость фортуна может создавать препятствия к достижению мудрости, хотя бы самой жизни у него и не отнимала?
– Нет, не думаю, – отвечал он.
3. – Я желал бы, – говорю я, – чтобы ты объяснил, в чем, по твоему мнению, различие между мудрым и философом?
– Я полагаю, – отвечал он, – мудрый от имеющего любовь к мудрости разнится только тем, что у мудрого есть некоторое постижение тех вещей, к которым у имеющего любовь к мудрости одно только страстное стремление.
– А что это за вещь такая? – спрашиваю я. – Мне, например, представляется между ними лишь то различие, что один знает мудрость, а другой еще только желает знать.
– Если ты это знание представляешь себе в скромных границах, то ты сказал то же самое, только яснее.
– Какие бы границы я ему не определял, – признано всеми, что знание не может быть знанием вещей ложных.
– На этот раз, – отвечал он, – мне показалось нужным предпослать оговорку, чтобы в случае необдуманного моего согласия твоя речь не вела против меня легких атак по таким основным вопросам.
– Действительно, – говорю я, – ты не оставил мне места, куда я мог бы направить свою атаку. Если не ошибаюсь, мы ведь подошли уже к самому концу, который я давно подготовляю. Итак, как ты тонко и правильно выразился, между имеющим любовь к мудрости и мудрым существует лишь то различие, что первый любит, а второй уже усвоил учение мудрости (потому-то ты и решился употребить известное выражение – “некоторое усвоение”); но усвоить учение не может тот, кто ничего не изучил, не изучил же ничего тот, кто ничего не знает, а знать ложного никто не может. Значит, мудрый знает истину – ибо сам ты признал принадлежность его душе учения мудрости.
– Не знаю, до какой степени я был бы бесстыден, – сказал он, – если бы захотел отрицать, что признал в мудром освоение с изысканием вещей божественных и человеческих. Но почему тебе кажется, что невозможно освоение с нахождением лишь вероятного, я не понимаю.
– Но ты соглашаешься со мною, что ложного никто не знает?
– Охотно.
– В таком случае, – говорю, – неужто ты готов утверждать, что мудрый не знает мудрости?
– Зачем ты все сводишь к тому положению, что ему может только казаться, что он знает мудрость?
– Дай, – говорю я, – мне свою руку. Если помнишь, я обещал вчера сделать именно это, и очень рад, что не сам вывел это заключение, а получил его вполне готовым от тебя же. Я говорил, что между мною и академиками существует то различие, что им казалось вероятным, будто истину познать нельзя, а мне представляется, что хотя она и не найдена еще, однако может быть найдена мудрым. Теперь же, отвечая на мой вопрос, – неужели мудрый не знает мудрости, – ты сказал: “ему кажется, что знает”.
– Но что же из этого следует? – заметил он.
– А то, – говорю я, – что если ему кажется, что он знает мудрость, то ему не кажется, что мудрый не может ничего знать. Или, если мудрость – ничто, подтверди это доказательствами.
– Я думал, что мы действительно подошли к концу; но в то самое время, когда ты протянул руку, я вижу, что мы разъединены как нельзя более и разошлись весьма далеко. А именно: вчера казалось, что между нами возник спор лишь о том, может ли мудрый достигнуть познания истины; ты утверждал это, я отрицал. Теперь же я сделал тебе, на мой взгляд, единственную уступку, что мудрому может казаться, что он постиг мудрость в вещах вероятных. Но думаю, никто из нас не сомневается, что под этой мудростью я понимаю исследование вещей божественных и человеческих.
– Из того, что ты пытаешься увернуться, – улыбнулся я, – еще не следует, что тебе это удалось. Мне кажется, что ты споришь уже ради самого спора. И Так как хорошо знаешь, что эти юноши еще с трудом могут различать остроту и тонкость в суждениях, то и пользуешься неопытностью судей, чтобы говорить сколько тебе заблагорассудится, не встречая ни с чьей стороны неодобрения. Ведь незадолго до этого, когда я спрашивал, знает ли мудрый мудрость, ты сказал, что ему кажется, что знает. Но кому кажется, что мудрый знает мудрость, тому не может казаться, чтобы мудрый ничего не знал. Против этого спорить нельзя, разве кто решится утверждать, что мудрость есть ничто. Из этого вышло, что и тебе кажется то же самое, что и мне; мне кажется, что мудрый нечто знает; то же, полагаю, и тебе, который сказал, что мудрому кажется, что мудрый знает мудрость.
– Думаю, что упражнять свои способности желаю не столько я, сколько ты, и весьма этому удивляюсь, так как ты не имеешь нужды в каком-либо упражнении по данному предмету. Может быть я и слеп, но мне кажется, что есть различие между тем, чтобы казаться себе знающим, и тем, чтобы знать, между мудростью, полагаемою в исследовании, и истиной. И то и другое нами говорилось; но каким образом все это объединяется, я не понимаю.
Тогда я, так как нас позвали уже к обеду, сказал:
– Я недоволен, что ты так упрямишься, потому что или оба мы не знаем, что говорим, и в таком случае нам нужно постараться снять с себя такой позор, или познает один из нас, что также оставить без внимания и пренебречь было бы постыдным. Поэтому в послеобеденные часы сойдемся снова. Ибо в то время, как мне казалось, что между нами все покончено, ты пустил в дело даже кулаки.
На это все рассмеялись, и мы отправились домой.
Состязание второе
4. Когда мы возвратились, то нашли Лиценция, жажды которого Геликон никогда не удовлетворял, ломающим голову над сочинением стихов. Почти с половины обеда, хотя нашему обеду конец был там же, где и начало, он тихонько встал и ничего не пил. Я сказал ему:
– От души желаю тебе создать задуманное тобою поэтическое произведение. Это не потому, что меня особенно порадовало бы его окончание, а потому, что вижу тебя так страстно увлекшимся, что освободить от этой любви может тебя только отвращение, а оно обыкновенно является по окончании. А после того, так как у тебя очень приятный голос, я желал бы, чтобы ты лучше прочел нам твои стихи, чем, как в известных греческих трагедиях, пропел, поскольку при этом смысл ускользает не только от слушателей, но, зачастую, и от исполнителей, которые уподобляются птичкам, поющим в клетках. Напомню, однако же, что неплохо было бы тебе возвратиться в нашу школу, если для тебя, конечно, имеют в настоящее время какое-нибудь значение “Гортензий” и философия, которой ты в прежней нашей беседе уже принес в жертву прекраснейшие початки, и которая воспламенит тебя сильнее, чем эта поэзия, к познанию вещей великих и плодотворных. Но желая всячески привлечь вас к этим наукам, которые служат к образованию душ, я боюсь, чтобы вы не попали в лабиринт, и почти жалею уже, что сдержал ту твою страсть.
Лиценций покраснел и вышел попить, отчасти потому, что чувствовал сильную жажду, но еще и потому, что это служило поводом избежать меня, который мог выговорить его куда более сурово. Когда он возвратился, и все готовы были слушать, я начал так:
– Правда ли Алипий, что мы не согласны между собою по предмету самому ясному?
– Нет ничего удивительного, – отвечал он, – если Для меня темно то, что для тебя, как ты уверяешь, вполне очевидно; ибо очень многое ясное может другим казаться яснейшим, равно как и что-либо темное может казаться для иных темнейшим. Так, если и это для тебя действительно ясно, то, поверь мне, есть кто-нибудь другой, для которого и это твое ясное гораздо яснее, и, в то же время, найдется и такой, для которого мое темное гораздо темнее. Но чтобы ты долее не считал меня вздорным, я прошу тебя изложить это ясное пояснее.
– Выслушай, пожалуйста, – говорю я, – внимательно и отложи на время заботу отвечать. Если я хорошо знаю себя и тебя, то, постаравшись, ты быстро меня поймешь. Не сказал ли ты, – или меня, быть может, обманул слух, – что мудрому кажется, что он знает истину?
Он подтвердил.
– Оставим, – говорю, – пока этого мудрого. Сам-то ты мудр, или нет?
– Вовсе не мудр, – отвечал он.
– Однако же, прошу тебя ответить мне, что думаешь ты лично о мудром академике: кажется ли тебе, что он знает мудрость?
– Не одно ли и то же, – спросил Алипий, – казаться себе знающим и знать; или, все-таки, не одно? Ибо я опасаюсь, чтобы эта неопределенность не послужила кому-нибудь из нас средством против другого.
– Это, – говорю я, – называется обыкновенно тускскою тяжбой, когда, вчинивши иск, стараются не о том, что может служить к его решению, а о возражениях противной стороне. Это и славный наш Вергилий (чтобы сказать нечто приятное Лиценцию) в буколическом стихе совершенно уместно счел деревенским и вполне пастушеским; когда один спрашивает другого, где расстояние до неба не более трех локтей, – тот отвечает: “А скажи-ка мне в каких землях растут цветы, что зовутся царями?” Но ты, Алипий, не сочти это уместным для нас, хотя мы и живем в деревне; пусть по крайней мере эти бани несколько напоминают нам о приличии гимназий. Ответь, если угодно, на то, о чем тебя спрашиваю: кажется ли тебе, что мудрый академиков знает мудрость?
– Чтобы, отвечая словами на слова, – ответил он, – мы не зашли слишком далеко, – скажу так: мне кажется, что ему кажется, что он знает.
– Следовательно тебе, – говорю я, – кажется, что он не знает. Ибо я спрашиваю не о том, что кажется тебе касательно кажущегося мудрому, а о том, кажется ли тебе, что мудрый знает мудрость. Ты не можешь, по моему мнению, ответить на это или утвердительно, или отрицательно.
– О, если бы или мне было так легко, как тебе, или тебе так трудно, как мне, тогда ты не был бы так привязчив и не относился бы к этому с какой-либо надеждой. Когда ты спрашивал меня, что кажется мне относительно мудрого академика, я отвечал: мне кажется, что ему кажется, что он знает мудрость, – отвечал так для того, чтобы необдуманно не утверждать, что я знаю, или не сказать не менее же необдуманно, что он знает.
– Прежде всего, сделай мне, пожалуйста, великое одолжение, удостой ответа на то, о чем спрашиваю я, а не на то, о чем спрашиваешь ты сам себя. А затем, оставь пока на некоторое время мою надежду, которая, я знаю точно, не менее заботит тебя, чем твоя собственная. Ведь если я поймаюсь на этом вопросе, я тотчас же перейду на твою сторону, и мы покончим спор. Наконец, устранив это какое-то беспокойство, замечаемое мною в тебе, вникай внимательнее, чтобы тебе легче было понять, какого ответа я жду от тебя. Ты сказал, что ты не утверждаешь и не отрицаешь (что требовал сделать предлагаемый мною вопрос) для того, чтобы не сказать необдуманно, что знаешь, когда на деле не знаешь; как-будто я спрашивал о том, что ты знаешь, а не о том, что тебе кажется. Итак, спрашиваю тебя на этот раз яснее (если только можно говорить яснее): кажется ли тебе, что мудрый знает мудрость, или не кажется?
– Если может, – ответил он, – найтись истинный мудрец, то мне может казаться, что он знает мудрость.
– Итак, разум подсказывает тебе, что должен быть такой мудрый, которому небезызвестна мудрость; и это верно. Ибо иначе оно и не может тебе казаться. Но теперь я спрошу: может ли найтись такой мудрый? Если может, то он может и знать мудрость, и тогда всякий спор между нами решен. Если же ты скажешь, что не может, вопрос будет уже не в том, знает ли что мудрый, а о том, может ли кто-либо быть мудрым. Установив это, нужно уже будет оставить академиков, и, насколько хватит сил, рассмотреть этот вопрос прилежно и внимательно вместе с тобой. Ибо для них было делом решенным, или лучше, им казалось, что человек может быть мудрым, но, в то же время, что знание не может быть уделом человека. Потому они и утверждали, что мудрый ничего не знает. Тебе кажется, что он знает мудрость; что, во всяком случае, совсем не то же самое, что ничего не знать. Вместе с тем, между нами, как и между всеми древними и между самими академиками, решено, что ложного никто не может знать. Поэтому тебе остается или доказать, что мудрость есть ничто, или признать, что академики представляют такого мудрого, какого разум не допускает.