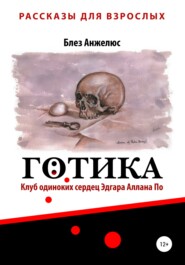По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голубая ода №7
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В то утро было тихо. Как будто после ночной бури на море воцарился мертвый штиль. Окна домов, как пустые глазницы, глядели в пустоту улиц и площадей.
Редкий прохожий походкой трёхдневного мертвеца уныло тащился в булочную или уличное кафе, чтобы согреться рюмкой виноградного бренди от бесконечного и промозглого кладбищенского озноба.
Это было как некое дежавю. С чем это можно было сравнить? Что это всё ему так отчетливо напоминало?
И тут он вспомнил: это дантово чистилище, где окончательно достигают истинной смерти созревшие для неё и из которого возвращаются к жизни ещё не доспевшие, не достигшие своего созревания. Это как большой зал ожидания, в котором все ждут своих поездов, тоскливо поглядывая в сторону перронов и вслушиваясь в объявления анонимного диспетчера. Какой странной и простой показалась ему эта мысль: смерть – это не конец всего, а лишь некий «билет» на «поезд», который увезёт тебя в неизвестном направлении. И тут наступил словно бы провал в его размышлениях, подобно одной из форм спонтанной медитации, в которую внезапно ввела его извне какая-то невидимая, непреодолимая и страшная сила. Не то, чтобы мысль была утеряна, нет, скорее одна, внезапно пришедшая к нему мысль, была подменена другой, абсолютно не связанной с первой, утерянной мыслью, и как произошёл этот переход, от едва наметившегося размышления об ароматических свойствах местных сортов лаванды и бересклета к совершенно иного рода воспоминаниям об одной железнодорожной поездке в начале июня из Биаррица в Страсбург, с незапланированной ранее остановкой в Париже, было совершенно не понятно, хотя и вполне объяснимо, если бы была возможность обратиться за разъяснениями к доктору Фрейду, так ловко распутавшему похожий случай, связанный с именем итальянского живописца Бельтраффио и горного итальянского местечка Трафой.
И вот на платформе Восточного вокзала его встретил ночной Париж: жаркое облако городских миазмов сразу же обдало его при выходе из вагона, роты стройных платанов выстроились у выхода из вокзала несмотря на жару, улицы и бульвары убегали в сиреневую даль, куда-то в сторону лувров, набережных и булонских лесов. Нестерпимо хотелось пить и ещё больше спать. Он мечтал о белой прохладной простыне, тишине и бледных пятнах ночных «зайчиков» на стене от света блуждающих ночных фонарей. Захотелось глотка терпкого охлаждённого каберне. Он огляделся вокруг. Ему показалось, что поезд прибыл по ошибке не в Париж, а в ночной Магриб или Карфагены: площадь, прилегающая к Восточному вокзалу, буквально почернела и это несмотря на то, что ленивое парижское солнце было ещё достаточно высоко над горизонтом. Кругом, словно в гигантском муравейнике, без конца шевелились достаточно смуглые люди, ловко выныривая из лавок зеленщиков и забегая в многочисленные барбер-шопы, которые тысячами словно притоны менял ютились по обеим сторонам главной улицы, возможно, Рю дю Фобур Сен-Мартен. После лазурного и уютного Биаррица было нелегко смотреть на все эти живописные особенности местного ландшафта. В глаза бросался поразительный контраст, такой, какой в состоянии заметить простой взгляд обывателя между пастельной голубизной арктического льда во фьордах Бергена, и чёрной, словно пепел, и иссушенной землёй на гигантских пустошах в Танжере.
Одним словом, зрелище было не для слабонервных. Он никогда не считал себя мизантропом и, тем более, расистом, но теперь, глядя на всё это, ему захотелось повторить вослед за Марком Порцием Катоном удивительно подходящую к данному моменту фразу – «Carthago delenda est!».
Он решил пройтись до набережной Сены по бульвару Севастополь, чтобы посмотреть, кто ещё живёт в эти дни в Париже. Недалеко от Пляс Мобер он купил бутылку джина у негодяя-китайца, нависшего над прилавком своего заведения словно огромный камчатский краб. За такую стоимость он смог бы приобрести целую милю знаменитой китайской стены или дюжину терракотовых воинов из тайной гробницы Цинь Шихуанди, но он успокоил себя фразой о том, что «Путь в тысячу ли начинается с первого шага», сказанную толи Лао-Цзе, толи Конфуцием. Право, это мог произнести и Мао Дзе Дун, от этого легче не станет, но, чтобы окончательно поставить все точки над i, он, уходя из китайской лавки, прихватил с собой большой ярко-жёлтый лимон.
Спать пришлось на лавке в саду Вильмен, примыкающему к набережной канала Сен-Мартен.
Небо было полно звёзд, так обычно изображают ночь в детских книжках, поразительно, что звёзды были столь близко, что, казалось, лишь протяни руку и сможешь схватить одну из них. Возможно, что, гуляя по бульвару Севастополь, он сам того не желая, поднял из глубин своей памяти воспоминания, связанные с детством. Это было как некий солнечный удар, а точнее, как звёздный удар, направивший полёт его мысли: Севастополь, Крым, Россия, такие далёкие имена мест, всплывшие в памяти словно белые озёрные кувшинки на тихой глади заросшего от старости лесного омута. Перед его взором явился дикий и заброшенный северный край, оставленные Богом места, где однажды провёл свои лучшие годы, по его собственному мнению, один русский поэт, гонимый своей страной в края иных чужбин, где он наконец-то нашёл покой под высокими южными кипарисами на рукотворном острове Сан-Микеле.
Он увидел, словно бы это было лишь вчера, деревянные покошенные избы в зарослях крапивы и бурьяна, заброшенный колодец, серо-синюю ленту реки, извивающуюся среди заливных лугов словно гигантский аспид.
Он заглянул в заколоченное окно одной из изб и увидел мерцание лампадки в углу, тихий и молчаливый свет которой золотил почерневший от времени оклад древней иконы, а рядом с этим «Чудом Георгия о змии» -пожелтевший кусок картона с суровым ликом грозного кавказского усача, образ которого для многих в той далёкой стране заменил на многие годы собой и Бога-отца и Родину-мать.
Как бы он не старался забыть об этих картинах из глубокого детства, они неизменно являлись в его снах, как прохладные иссиня-чёрные тени от деревьев в конце августа, которые по вечерам удлинялись в сторону заката и приближающейся осени. Всё это было здесь: и запах печного дыма, смешанного с ароматом свежеиспечённого деревенского хлеба, и стук веток рябины в ночное окно, и бисер грибного дождя, исчертившего своими серебряными нитями полотно сверкающего, золотого с голубым, неба. Бескрайние холмы, покрытые первым ноябрьским снегом, треск поленьев в печи и тепло домашней похлёбки, разделённое за общим столом.
Потом ещё он вспомнил ветхую часовенку рядом с деревенским погостом, с покошенными старыми крестами, уже анонимными, так как время стирает даже память и имена тех, кто уже ушёл.
Он вспомнил странные и заунывные женские голоса, певшие песни в церкви о всех забытых в чужом краю, о ребёнке у царских врат, о светлом месяце и тихой ночи, об изморози на замёрзших окнах и сладком аромате цветущей черёмухи, и чем дальше, тем больше образов роилось в его голове, и так он уже бредил о стогах в предрассветной мгле, о парном молоке, об уже забытой мелодии одного из этюдов Сергея Рахманинова, о «Тёмных аллеях», о Бунине.
О Бунине?
О Бунине:
«В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, тёплый ветер с поля несёт сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печёт солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна».
Воспоминания о Бунине и о тёмных аллеях вернули его опять в Париж, на ту одинокую зелёную скамью в ночном саду Вильмен, который примыкал к набережной Сен-Мартен, в девятнадцатом округе Парижа, а по сути он опять вернулся к своему изначальному одиночеству, как одинокая лодка, снова принесённая речным течением к своему причалу, из которого он так по-настоящему никогда и не вышел.
Он допил остатки джина из бутылки и направился в сторону шумного Gare de l‘Est, насвистывая про себя по памяти начало второй симфонии Рахманинова.
Беглянка
Вокзалы, перроны и поезда, как и смерть, интересовали его с самого детства, с того самого момента, когда на каменном подоконнике своего родительского дома он обнаружил насмерть замёрзшего снегиря, которого он сначала принял за гроздь рябины, затем за алый лоскут ткани, случайно залетевшего сюда. Его беспокойный детский мозг усердно и старательно придумывал различные возможности данного инцидента, пока не перебрав все возможные варианты, не остановился на одном единственном и самом необратимом – смерть.
«Маленькая смерть птицы.
Маленькая смерть собаки.
Нормальный размер человеческой смерти».
Так написал один испанский поэт, смертельно очарованный этим процессом cмерти.
Эта мысль захватила его целиком и уже не оставляла ни на минуту. Он отчего-то опять вспомнил о своём попутчике, странном и угрюмом еврейском докторе из Минска. Как же его звали? Он запамятовал и никак не мог вспомнить его имя. Чем он сейчас занимается? Совершает ежедневные прогулки по Лихтентальской аллее или, засев за рулеточный стол, создаёт свой собственный рай или ад, под иерихонские выкрики крупье «Faites vos jeux!»?
Сквозь зелень садов, покрывавших склоны горы, он ясно увидел белое двухэтажное здание с готической крышей, окна его даже днём были занавешены тяжёлыми бархатными портьерами, под потолком в табачном дыму были зажжены огромные хрустальные люстры, освещая задрапированные пурпурной материей залы, углы которых тонули во мраке, потому что из-за табачного дыма свет не достигал этих углов, а в середине каждой залы, центральной – большой и двух боковых – поменьше, стояли столы, покрытые зелёным сукном, а вокруг столов – люди, с жёлтыми от бессоницы лицами, руки их тянулись к столам, где были рассыпаны золотые монеты, они отсвечивали каким-то мерцающим цветом, как оклады икон в церкви во время богослужения, когда зажжены все свечи, и огни их колеблются в облаках ладана.
Он шёл в сторону аббатства по аллее, погружённой в туман. Навстречу попадался редкий прохожий: пожилая монахиня в чёрном, аптекарь, крысолов, ростовщик, купец и музыкант. И ещё он встретил проституток, вульгарных, вычурных, но знающих себе цену. Наглых и целеустремлённых. Живых, и от того – настоящих. Здесь их было много, как будто сам этот город был создан для них. Что их тянет сюда, какие несметные сокровища и молочные реки?
Он сделал привал и присел на скамейку в яблоневом саду, что расположен на холме, над древним Лихтентальским аббатством, которое было основано в середине тринадцатого века. Прямо перед ним развернулась живописная панорама шварцвальдских гор с видом на зелёные виноградники, карабкающиеся стройными рядами в лазоревое небо. Он сидел и ни о чём не думал, глядя на цветы и травы у его ног и слушая шелестящую на тёплом ветру листву деревьев. Природа жила своей жизнью. Незамысловатой и лишенной пространных рассуждений о будущем. Чёрный дрозд нёс в своём ярком жёлтом клюве дождевого червя, яблони, отяжелённые своими спелыми плодами, клонили ветви к земле, на опушке, залитой солнечным светом, бегала собака с ярким рыжим окрасом и радостно виляла хвостом.
Мир не был скучен и угрюм, и был вполне самодостаточен, чего нельзя было сказать о человеке. Например, о нём, который больше рассуждал и думал о бессмертии, чем был в состоянии просто наслаждаться текущим мигом такой короткой жизни.
Он вспомнил один из красивейших отрывков, принадлежащих перу Шатобриана: «Вчера вечером я прогуливался в одиночестве… и размышления мои были прерваны щебетанием дрозда, расположившегося на самой высокой ветке берёзы. В одно мгновение благодаря этому волшебному звуку перед глазами моими возник отчий дом, я позабыл потрясения, которые мне только что довелось пережить, и, внезапно перенесясь в прошлое, вновь оказался среди полей и равнин, где столь часто приходилось мне слышать щебетание дрозда».
Он, как будто, сам не подозревая того, оказался вдруг в некоем перекрестном диалоге с давно уже мёртвыми поэтами, которые несмотря на свою физическую смерть, всё ещё волновали и подвергали разной степени сомнений его возбуждённую от столкновений с поэтическим словом душу. В этот раз инициатива была «в руках» у Бодлера, хотя и достаточно кратковременная. Его многочисленные реминисценции гораздо менее случайны, чем, к примеру, у Шатобриана, и, следовательно, более значимы. Сам поэт тщательно, осознанно отбирая, ищет в аромате, например, в аромате женщины, её волос, её груди, вдохновляющие аналогии, которые могли бы воскресить в памяти «лазурь небес, округлых и глубоких, или «в огнях и мачтах старый порт».
Или, как в этом случае, Бодлер говорит своему вневременному читателю:
«Мой дух уносит твой волшебный аромат
Туда, где мачт леса валов колышет ряд,
Изнемогающий от качки беспокойной.
Где тамаринд струит далёко запах свой,
Где он разносится пьянящею волной
И сочетается с напевом песни стройной».
Он вновь обрёл духовное равновесие, его уныние было сметено тем блаженством, что в разные периоды его жизни дарили ему деревья и цветы, вид колоколов Мартенвиля, аромат размоченных в чае мадленок и множество других ощущений. Он силился вспомнить цитаты из Бодлера, в которых можно было бы угадать эти «перемещённые» ощущения, чтобы наконец утвердиться в столь благородном родстве. Усилия никогда не бывают напрасными и его память, в качестве вознаграждения за такие усилия, предложила ему одну из самых прекрасных фраз, но, по совершенно непонятной причине, эта фраза принадлежала не Бодлеру, а Шатобриану, из его «Замогильных записок»:
«Тонкий, нежный аромат гелиотропа исходил от грядки цветущей фасоли, но он был принесён отнюдь не дуновением отчизны, а яростным ураганом с Новой Земли, и растение-изгнанник было здесь совершенно ни при чём, и не было здесь сладости воспоминаний и наслаждения. В этом аромате, не вдыхаемом красотой, не очищенном её легкими, не стелящемся по её следам, в этом аромате другой зари, культуры и другой части света чувствовалась вся грусть сожалений, потерь и ушедшей юности».
Эти чудесные фразы, болезненно-нежные, подобно музыке, шепчут утешения в невысказанных горестях и неизлечимом отчаянии; но надо быть осторожным: они могут вызвать в вас тоску по родине подобно тому, как пастуший рожок заставил бедного швейцарского ландскнехта из немецкого отряда в гарнизоне Страсбурга переплыть Рейн; он был пойман и расстрелян «за то, что слишком заслушался альпийского рожка».
И снова аллея стала безлюдна, безвидна и пуста. И тьма над бездною, и дух носился над водою.
Он часто ощущал своё метафизическое одиночество, но оно не являлось для него ни тяжким бременем, ни непереносимой тоской, связанной с некой формой печали или апатией. Для него одиночество скорее было, в некотором роде, внутренним ресурсом, позволяющим сконцентрировать внимание и энергию с целью создания авторского артефакта в области искусства, литературы или, даже, определённого рода сексуальных утех, граничащих с искусством или его сублимацией. Ведь странно даже себе представить то, что какой-либо, произвольно взятый, анонимный шедевр мог бы появиться из какой-то иной творческой стихии, кроме одиночества.
Сложно себе представить, размышлял он про себя, что тот же Брейгель, например, мог бы исполнить сюжет своих «Охотников на снегу», давно отвоевавших своё место в вечности, окружённый семейным стадом или односельчанами. А что говорить тогда о «Кувшинках» Моне, «Анжелюсе» Милле или, к слову, о великом «Утерянном времени» Марселя Пруста, которое родилось в абсолюте его одиночества.
В русле этих размышлений он вспомнил проникновенные слова одного русского режиссёра, имя которого он не смог вспомнить, но его могила с упоминанием об ангеле однажды встретилась ему среди тысяч замшенных надгробий на парижском кладбище Пер-Лашез:
«Мне хочется сказать людям, чтобы они умели больше находиться в одиночестве.
Любили бы быть наедине с самими собой почаще.
Мне кажется, каждый человек должен учиться с детства находиться одному. Это не значит, быть одиноким. Это значит – не скучать с самим собой. Потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения».
«Мне бы не хотелось держать вас за пределами этой книги; все вы, живые и мёртвые – читатели. Это свершается за пределами моего «я»; и мне бы хотелось, чтобы это свершилось – именно так, в тишине».