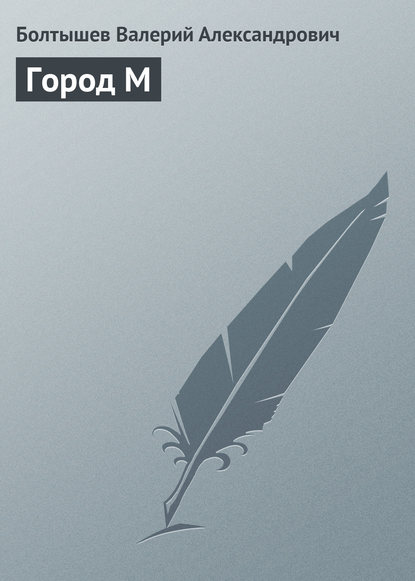По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Город М
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что? Что видал? Ну?
– Да все, голубчик. Горе и несчастие. Ведь она, голубушка… совсем… под грузовик,– робко сказал краевед.
Главка № 5
Однажды поутру не отозваться на зов.
И поглядеться в зеркальце, не оставив на нем следа.
И отдать себя им – тем, кто несколько молчаливых минут не будут знать, как поступить с тобой и с твоим широко раскрытым ртом.
Затем понемногу все образуется. Те, кто звал, делать этого больше не станут. Они поймут, что ты пуст. И прав, не отвечая им, прав относительно всех больших и малых религий. Которые, вероятно, тоже правы, ибо зовут умирать, дождавшись конца, когда дозревшая душа дозрела вполне и выкатывается из жухлой корочки почти что неповрежденной – иначе зачем же ее растить…
И зачем ждать всего, чего дождался ты – тощих ног, прокисших глаз, беззубых и бессмысленных слов,– в последний год ты шептал их трещине на потолке.
Но все образуется. И если найдутся те, кто придет утром, и если для чего-либо это покажется необходимым, они сумеют уточнить, в котором же часу – в котором именно – темно и тайно, как ночная вода из колодца, ушла жизнь. Они обманутся в одном – в выражении лица,– решив, что ты умер от нехватки воздуха, и не поняв, что это всего лишь странно: через раскрытый рот выдохнуть себя самого.
В остальном они ошибутся несильно, как всегда и как все,– назвав то, что приключилось с тобой, словом "смерть". Это ложь.
Смерть – то, что происходит вдруг.
Будь то вставший к виску ствол. Или нависший проворот колеса.
Смерть – как жизнь: ей нужны глаза. Большие, округленные ужасом – если это случается внезапно, и груда железа бьет в тебя потому, что ты забыл, как это может быть. Или – настороженные и полные боли, если твердо решено, что гремящая эта ржавь зовется самосвалом, а значит – сделает все сама, только успеть…
И еще, самое последнее – сквозь кровяной хряст, и не видное уже никому: а что взамен?
Очень давно, то есть – в ту легкую пору, когда самой серьезной ценностью была синяя, скажем, бусинка и потное ее хранение в кулаке, спрятанном под подушку,– в ту пору проще всего давалось чувство, будто мир в любую из своих сторон существует в некоей стеклянной и солнечной неподвижности, и чтоб зажить и как-то там запроисходить, всякий закоулок ждет тебя, как остановившиеся часы – часовщика. Впрочем, часовщик был тяжел и хлопотлив. Часовщику надлежало вставлять в глаз черный окуляр и делаться похожим на микроскоп, тогда как Инге предлагалось всего ничего – только что войти в соседнюю комнату,– и об стекло стенных часов начинали стукаться твердые секунды, а влетевший ветер тут же надувал паруса штор, а в позабытый за тишиной и потому пустой аквариум вплывала золотистая стайка вуалехвостов.
– Мама,– говорила Инга.
И появлялась мать.
Может быть, это и было то самое "вчера"? Или – "позавчера"?
Но, может быть, Инга сумела вспомнить, что между тогда и теперь разместилась долгая череда дней, и "мама" – просто крик, прежде чем упасть или испугаться чего-то вдруг. И дальше, становясь все корыстней, время перестало стараться дарма, и чтоб запустить жизнь вокруг себя, следовало то громко петь в школьном хоре, то красить в синий цвет могильную оградку, то ставить в стакан с водой промерзшую веточку – голую ветку на голое окно – и думать, что же осталось неразоренного, и чем из этой малости платить еще.
Ей казалось, что жизнь происходит где-то возле и затухает там, куда пришла она, как хороший разговор в присутствии постороннего.
Гнутый бампер – подсваренный и подкрашенный по шву – пожалуй, был ровесником этих идей. Но до него было далеко. Потому что ощущение жизни, хоть и без себя, все равно – жизнь. Даже если вычитанно считать ее набором мышеловок, хлоп-хлоп. Где наживкой – все, что умеет хоть ненадолго обмануть: льдистое утро в стекле, краешек надежды, случайный для придорожной травы цветок… Все, что может заманить глубже, с одной старой привычкой жить.
Из придорожной толпы всяк врал по-своему. И сказать наверняка, что и как вышло у крикнувшей или некрикнувшей женщины в пальто, мог только кто-то в пиджаке, сообщивший себе самому про "несчастный случай", поскольку все действительно уже случилось – он опоздал – и заглохший ЗИЛ стоял, оставив Ингу у заднего колеса, а она, видная до локтей, была разбросана бесстыже и грубо и не видела уже ничего.
Но как-то раз, раздевшись донага перед большим трехстворчатым зеркалом, Инга долго смотрела в него. Под ногами блестел пол, и было холодно стоять так. Но она зачем-то старалась запомнить этот голый свет и это тело, с головой глазастой жрицы и низком мелкой зверушки.
Она думала о том, что как-то раз в такой же, по крайней мере, очень похожий сосуд отец нацедил немного слизи и, несмотря на обычную в таких делах спешку, сумел позаботиться обо всем сразу, от острых коленок и пуха на них до неистребимой жажды все той же спешки – и знания, что это обязано быть, пока жажда не уйдет сама, бросив прогорклую плоть.
Может быть, тогда, у зеркала, Инга ощутила жизнь иначе, не где-то далеко, а – внутри: тихую, притаившуюся. И, пожалуй, враждебную. Потому что жизнь – та, что мнет и обирает тебя,– в заговоре с телом, которое хочет жить дальше. И бережет ее, отпугивая тебя. И последний вопрос – "а что взамен?" – задаешь совсем не ты.
На этот вопрос ответа нет. Над ним можно думать всю жизнь. И, может быть, думая так, Инга просто не разглядела улицы Прорабов.
Но ответа нет. И не было потом, когда горсть слепой крысиной лапкой царапала пыль, а жизнь слепо летела прочь, стараясь угадать, где же Тот, Кто хотел души, и как поступит теперь: смахнет ли брак со стола иль пустит средь кущ, похожих на большую Жмурову плешь.
Глава шестая и последняя
А Егорушке Стукову снился темный сон.
Понимая теперь кой-какие признаки, можно было бы заподозрить, что Егорушке снилось грядущее – если бы сон вдобавок не был таким скрюченным в коленки и холодным наощупь. И если бы при задевании его (пуговицей, например), не раздавался бы вдруг металлический стук.
Точней было бы подозревать, а не снится ли вот что: шкаф? Выкрашенный суриком, стоящий у стенки несгораемый шкаф, но – изнутри. Хотя бы потому, что Егорушка спал именно внутри – сперва заложив за дверцу одну только голову, а потом скомкавшись в него весь, так как за одной головой дверь, естественно, не закрывалась.
Словом – конечно: это был шкаф. Сейф. Он был списан в домоуправлении и привезен в Егорушкину кухню на случай перекрытия воды. Все так.
Но, во-первых, Егорушка был самым глупым образом пьян. И в шкафу копился выхлоп. Который, к тому же, дребезжал и всхрапывал, как дизель с засоренной форсункой. И, наконец, щель (дверцу Егорушка прикрутил проволокой, у него была), все перечисленное плюс узенькая щель повдоль укромного железа подсовывали для сна другое, мечтательное толкование: будто он, товарищ Стуков Егор Димитрич – подмяв Кобылкина вдругорядь, но тем самым выказав ему рецепт,– в данный текущий момент спрятан все же безопасно и, скорей всего, едет в танке, подглядывая на езду в смотровую, допустим, щель.
Словом, Егорушке снился танк.
И это было правильно. Потому что танк действительно был. И гремел куда громче Егорушкиного. Но железный шкаф действовал, как экран, отражая сон внутрь, и про танк настоящий Егорушка не знал.
Это был очень тяжелый танк.
Расхрустывая брусчатку, он шел по переулку Маркшейдеров, занимая его собой и лязгающим маревом вокруг. Вопреки габаритам, он катился легко, наплывая миражом, и словно бы хотя удивить, что такая махина движется от ерундового и мелкого мельтешения траков. Встрявший куда-то внутрь, в сустав, из-под крыла торчал розовый куст.
Свернув к управленческому погосту и осадив так, что башка с задранным хоботом грузно качнулась вниз, танк встал. Перебирая холостые обороты, он сделался тих, но тем слышней зазвучал новый, совершенно отвратительный звук – визг, который издает башня, поворачивая ствол. Затем, когда тень от ствола легла за штакетник, а ствол замер, нацеленный в дверь, сквозь наступившее молчание стукнул еще один звук, и в раскупоренный люк на башню выбрался Анна, пихнув вперед себя хмурый взгляд.
Пожалуй, калитку можно было открыть как-то по-другому. От удара ногой хуже было только ноге – дощатая и легонькая, дверца распахнулась вхлест, даже не вскрикнув, тогда как Анна отшагал несколько злых шагов, сипя какую-то дрянь. Но, вероятно, в таком поступке он чувствовал потребность и надобность. По крайней мере, в дверь управления он грохнул кулаком.
Дверь производила впечатление закрытой. Вернее – запертой. Собственно, она и была заперта – как это оказалось, когда Анна, еще раза два или три ощутив свой кулак и не услышав ничего в ответ, подергал дверь – заперта на так называемый внутренний, врезанный-переврезанный замок, который высовывался на треть и брякал, как щеколда, стучась об фанерную латку. Ни черта не стоило, рванув раз-другой, вывернуть его вон. Но когда Анна рванул, и раздался хруст, выворотился не замок, а косяк – податливо треснув по всей высоте и обнажив ржавые коренья гвоздей.
– Делай раз… Не надо бояться человека с ружьем,– вполголоса отметил Анна.
За дверью было темно. И висела пыль. Та самая – как если запустить в трухлявый пень руку, а потом покрошить труху из горсти.
Придерживая дверь и дожидаясь, пока спадет пыль, Анна оглянулся.
Вряд ли можно сказать, что сделал он это вовремя. То, что он увидел, глянув через плечо, было неинтересно и значения не имело. И если б Анна не увидел поспешающего гражданина сам, гражданин заговорил бы все равно и обязательно, потому что уже издалека с любопытством посматривал туда-сюда и, пожалуй, поэтому и поспешал. Заметив, что он замечен, гражданин закивал, в знак поспешности – дескать, ага, иду-иду! – махнул капроновым бидоном и засеменил живей, виляя меж могильными грядками.
Он был невелик и тонконог, одетый в поддернутые спортивные штаны и голубую майку, заправленную в штаны. Кроме того, на нем была большая газетная пилотка, но сидящая поперек, на ушах, как принято ее располагать для побелочных и прочих малярных дел. Должно быть, поэтому, обсмотрев незначительного гражданинчика как-то сразу целиком, что позволяет незаинтересованный взгляд – вплоть до кнопочной бородавки под носом, которую тот почесывал на ходу свободной рукой,– Анна обозначил его про себя словом "щекотурщик", не вкладывая, впрочем, в название никакого смысла.
Царапнув кнопочку, щекотурщик встал шагах в трех.
– Здрасьте. А я тут – рядом. В смысле – живу,– зачем-то сообщил он.– А это вы не Егорку свергать приехали? – спросил он, махнув бидоном на танк.– Так ведь нету никого. Выходной же. Воскресенье. А вы, наверно, не слышали?
– Чего именно? – сказал Анна.
– А что – выходной. С утра ведь объявили: решение, мол, так и так, воскресенье,– пояснил щекотурщик.– А на танке, смотрю: могут люди, думаю, зря ошибиться, если не предупредить. Тут ведь у нас мужики. Этих-то никого, кого свергать, а мужики тут.
– Какие мужики?