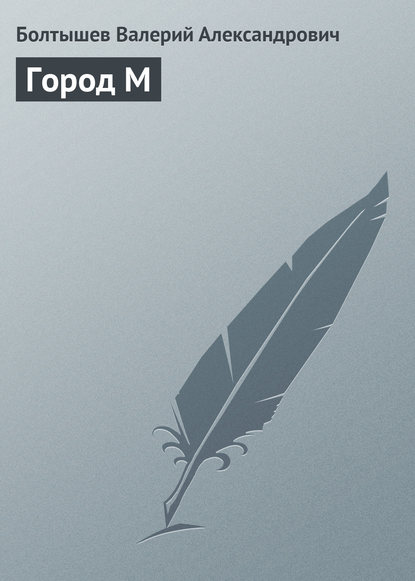По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Город М
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Очень похоже на литургию,– заметил Анна.
– Вы думаете? Ну что ж… Чувство вполне религиозное. Пожалуй, это религия. Религия для города М,– еще тише проговорил Клавдий.– Кстати, я думал отправить вас за границу…
– Меня?
В ответ щелкнул фонарь. Наклонившись над маленьким трупом, Клавдий смотрел ему в лицо.
– Не знаю. Может быть – не вас. Себя. В принципе, это неважно. В городе М это не имеет значения…
Откуда взялось лицо, Анна догадался чуть поздней, сперва очень подробно, как это бывает при свете в упор, увидев как бы плохо склеенный глаз, а возле него – палец Клавдия, который зачем-то растягивал этот глаз на китайский лад. Затем палец исчез, оставив кровяной мазок. И Анна понял, что Клавдий просто повернул голову под свет.
На голове был шлем, похожий на шлем велосипедиста. Сидя на корточках, Клавдий держал фонарь как раз против трех гребней, закрывающих лоб.
– Но я понял, что вы слишком долго жили в городе М. И слишком долго мечтали о другой жизни. Мечта о другой жизни – мечта онаниста. Он мечтает о женщине, которая ему не нужна. Следующий этап – этап кастрата. Вы прошли и его. Вы тоже перестали что-либо представлять. Что-либо по-другому. Вы нежизнеспособны. Не исключено, что вам лучше умереть.
– Слушайте, на кой черт эта галиматья? – пробормотал Анна.
– Нет. Это называется дело Пинчука,– не переставая говорить, Клавдий наклонился к самому лицу трупа, затем перевел свет на свою окровавленную ладонь и как бы с недоумением оглядел ее с обеих сторон.– Вам осталось немного. Чуть-чуть. Узнать, кто ломал дверь. И кто сидел за рулем. И все.
Остальное случилось быстро.
Еще раз приглядевшись к левой руке, Клавдий переложил в нее фонарь, а правой – зацепив труп за подбородок и прижав коленом – дважды рванул вверх. Раздался хруст.
Оторопело поднявшись, Анна вдруг понял, что маленький шпион теперь лежит так, как лежал одноног. Он словно бы хотел посмотреть, кто его разбудил. Разлипший глаз отражал фонарь.
Затем все пропало – и фонарь, и глаз. Но Анна отчего-то очень легко понял, что в темноте под ним происходит какое-то очень простое движение. И, отодвинув чужую ногу, Клавдий просто сел, положив фонарь возле себя.
– Послушайте, вы…– выговорил Анна,– вы, наверно…
– Нет. Мне показалось, что он дышит. Я ошибся. Можете идти. Держитесь плинтуса, и все будет хорошо… Да! – Клавдий отрубил "да" гораздо торопливей, чем требовалось.– Возьмите пистолет.
– Пистолет?
– Да. Отличный пистолет. Делает огромные дыры. Глушитель и… и так далее. Возьмите. Одну секунду, сейчас я его освобожу…
Прежде чем понять, что это значит, Анна послушно протянул растопыренную ладонь. Он не увидел вспышки, потому что Клавдий выстрелил себе в рот.
Глава третья
Нужно спешить
Никодим.
К рассвету он открыл южный путь в Жмурову плешь.
Южный берег кладбища был крут и обрывист. И, поднырнув под проволоку, Анна оглянулся вниз, где в предрассветной мути стоял город М.
Но, выбравшись на гребень, тропа тоже уходила вниз, и настоящий туман начинался там, в ручье, и затекал в лес, и, ступая по мокрой хвое, Анна угадывал тропу по верхушкам травы.
Над розарием висели тишина и крест.
Хуже всего был крест. Он притягивал взгляд, ронял сквозь и пугал пустотой вокруг. К тому же, он стоял криво. И казался черным.
Поэтому, спешно процарапавшись сквозь кусты, Анна почти с удовольствием окликнул Мухина. Хотя живой краевед мало оживлял пейзаж.
Краевед сидел на крыльце, подперев коленками толстую тетрадь. И что-то живо чиркал в ней карандашиком. Взглянув на Анну поверх очков и как бы рассудив, что метров двадцать пять у него еще есть, он опять ткнулся в гроссбух.
– Сколько же можно, голубчик,– пробубнил он, не поднимая головы.– Это, знаете ли, безобразие…
Он был сух, административен и деловит. Он поджимал верхнюю губу, имел на носу снятые с астронома очки и был готов к целому ряду как мелких, так и крупных подлостей, кое-что из них уже совершив.
Например, тишина в нерестилище объяснялась тем, что – устав от шума у костра – Мухин явился к Петру и потребовал ради Христа портвейна и люминала, тем самым отыграв тайную вечерю – раз, и прекратив – "а ну их, ей-богу, голубчик" – всякую болтовню.
– Как минимум, батенька, часов на шесть.
Сходным – то есть подлым – способом был добыт и крест. Выслушав от Петра "галмана" и "пустобреха", Мухин поправил очки и объяснил, что, если крест не будет готов к утру, к утру будет готов донос Клавдию о резервации на Жмуровой плеши, а ударившему его в правую щеку, он, Арсений Петрович, подставит левую, и все.
К утру крест был готов. Он стоял в яме для рассады.
– Между прочим, Клавдий мертв,– сказал Анна.
– Между прочим, незачем кричать,– строго заметил краевед.– Знаем и без вас. Вот, пожалуйста, на букву "К"… Ага, вот. Прошу смотреть,– кивнул он, полистав гроссбух.– "К вопросу о Клавдии. Причины: а) внезапное помешательство; б) не помешательство, а запутанность дел вследствие шантажа о восьми письмах; в) не запутанность дел, а давнее желание покончить с собой и найденный повод для. Сказано: два часа пополуночи, попросив воды". Ну-с? Что скажете? Лично я склоняюсь к помешательству.
Поскольку вслед за таковыми словами возникла внимательная пауза, Арсений Петрович сказал "гхм", поджал губу и жестко уточнил, что склоняется к помешательству Клавдия, ибо считает крах темных сил неотвратимым – это во-первых; что для соблюдения порядка вещей (и за неимением времени сочинять всякие там притчи) пророчества говорятся в трех вариантах на выбор – это во-вторых; и в-третьих – к делу.
По плану Мухина, Анне предстояло поговорить с Никодимом, который давно ждал; отговорить его от Голой горки, где опасно и может быть патруль; постричь Волка, который, в отличие от бритого Никодима, больше похож на Христа, а это нехорошо; и, наконец, будучи Анной и дождавшись Варавву, которого затребовали голубиной почтой, принять участие в распятии, запланированном через час-полтора.
– Да, и еще – вот…
"Вот" была тетрадь, которую следовало смотреть на странице семнадцать.
Тетрадь представляла из себя линованный журнал, украденный у Петра. На пятнадцати первых страницах значились сроки внесения удобрений, полива и прививки двух сортов роз – "Ипподром" и "Стенька Разин". Шестнадцатая страница была пустой, если не считать большого Z, изображенного категорично и размашисто. Страница семнадцать начиналась начертанием такого же размашистого креста, от которого по сторонам разлеталось карандашное сияние.
– Это я так, в задумчивости,– буркнул краевед.– Вы читайте, читайте…
"Се аз и свидетельства мои, еже даны ми днесь.
Понеже есмь пришел в пору дерзновения своего, по сем паки благословения смиренно прошу.
О, слезы и воздыхания! Что желаемое есть?
Прельщение содеется в градах и весях. А паче всего я был опасен, дабы Возлюбленнейший и паче живота телесного Дражайший…"
– Ну, дальше пока нету,– пояснил Мухин, ревниво доследив до "дражайшего".– Так, знаете, задумки, наброски, да… Кое-что, безусловно, нужно, батенька, обмозговать. А?
Говоря по совести – чего Арсений Петрович, конечно, не сделал и делать не собирался – мозговать предстояло черт знает сколько всего. Например, несмотря на специальные усилия, он никак не мог представить, что Никодиму почти две тысячи лет, хотя по логике вещей получалось именно так.
Более того, Мухин крайне расплывчато рисовал себе предстоящее распятие, то есть его практическое осуществление с гвоздями и остальным, и полагался, в основном, на Анну – так же, как и на его соавторство в Евангелии, к каковому делу Мухин относился очень серьезно, но не умел.