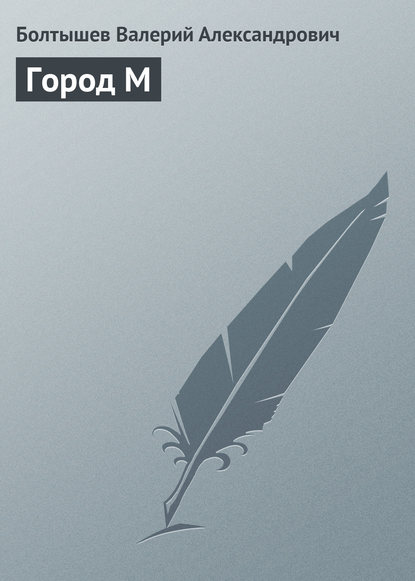По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Город М
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это было похоже на приглашение в зоопарк, но Анна думал уже о другом.
Он думал, что поторопился назвать Жмурову плешь раем, поскольку открывшийся розарий – о трех огнях – производил едва ли не обратное впечатление.
Правда, один из огней был мирным, но стоящий на веранде Петр и его большая благонадежная тень, распростертая ниц, различались потом, тогда как костерок – от тропы слева, и мятущийся костер – справа рвали ночь и взгляд по кускам и попахивали шабашем.
Кое-какие уточнения – что, например, левый костерок горел совсем ни для чего и сам для себя, и далекий Никодим Петрович сидел спиной к огню, – или что правый костер был просто велик и казался бесноватым разве из-за мелькающего на его фоне Мухина,– все эти уточнения играли очень неглавную роль, и Анна, опять обняв или, скорее, прихватив Ингу, поспешил к крыльцу, тем более заметив, что мелькающий Мухин, бросив собеседников гудеть вокруг костра, кинулся вперехват.
– Потом, Арсений Петрович, потом! – прорычал Анна, когда старик, выскочив вперед, для верности разбросал руки крестом.
– Да как же потом, как же потом, батюшка! Вас ведь только и ждем! Здравствуйте, голубушка! Здравствуйте, милая! С добрым вас здоровьем позвольте поздравить, с выздоровлением, душевно рад… Только он велел передать, что он тут ни при чем,– затарахтел старик, легко перескочив с родственного тона на официальный.– Он велел сказать, что это в порядке вещей: испуг, страх и все. Шокотерапия! Понимаете, голубчик? Он велел вам передать…
– Слушайте, это я велю передать! – перебил Анна.– Идите и передайте, что его начали искать. И…
– Да мы знаем, знаем! Это мы знаем! – замахал Мухин. Его некрупного тельца не хватало на весь проход, и, помахав, он опять растопырил руки по сторонам.– Голубчик! Еще раз и спецально вам, коротко, конспективно, так сказать. Тут уж – всякие домыслы, болтуны всякие, прости господи, я уж не успеваю, туда-сюда… Прежде всего – вот! – Мухин выстрелил вверх указательный палец и потряс им над головой.– Нет, не Второе пришествие! Первое! Ибо схвачен был и в темницу заточен! Где вы его, голубчик, и нашли…
– Все хорошо, малыш,– вставил Анна.
– Далее! – прогремел Мухин.– Не был распят, но был убит! Распятия не было, но была рапространена версия распятия! Ложная версия! Далее! Версия была канонизирована и сделана предметом веры. Он не мог вмешаться, чтоб не убить веры. Он не может вмешаться и теперь, покуда не оправдал ее собой. Всякое вмешательство будет ложью и поруганием веры. Всякое дело и любое слово… Нет, кажется – всякое слово,– сбился Мухин,– и любое дело. Кажется, так… Да, но с вами, голубчик, он почему-то хочет поговорить. Он велел…
– Хорошо, хорошо,– сказал Анна, отгребая обмякшего краеведа.– Через час.
Он решил, что на Клавдия часа хватит с лихвой.
Глава вторая
1
То, что в ночь была объявлена облава на инвалидов, на Жмуровой плеши узнали позже.
В принципе, в этом не было ничего чрезвычайного: облавы на инвалидов, уклоняющихся от проживания на улице Инвалидов – с целью их туда переселения и подготовки к олимпиадам – проводились четыре раза в год, перед каждой из четырех олимпиад.
Но то, что под эгидой облавы велся розыск Никодима Петровича ("Комната В"), что доставившим было обещано абстрактное "повышение", может – паек, может – сапоги (на самом деле – расстрел на месте для секретности) и что в приемной домоуправления с телефоном и карабином "медведь" дежурил лично Матвей Кобылкин, которому в день похорон руки Емлекопова мигнула карьерная перспектива (остальное домоуправление в "красном уголке" по приказу Егорушки справляло трехдневные емлекоповские дни) – об этом не объявлял никто.
Хотя кое-что можно было понять и так, по обилию сигнальных ракет и реву моторов.
Понять что-либо мешали мысли – клочковатые и несвязные, как положено мыслям на бегу.
Самой прилипчивой была одна, которая была просто уверенностью. Анна просто знал, что сумасшедшая Инга Голощекова не только не называла его Андрюшей, но в течение двух последних лет не заговаривала вообще.
Это Анна знал. Все прочее – вопли Мухина, неясное "вчера" и главное – совсем неясное "завтра", с ворохом объяснений и ситуаций дурацких просто наверняка – все это мелькало и летело вон, потому что ничего этого Анна не знал и не хотел, и был рад открывшемуся делу как поводу быстро бежать по конкретным делам.
Он, конечно, не подозревал, что занимает ровно полпараграфа в приказе на сегодняшнюю ночь, и что теперь, ругаясь и хромая для отвода души, является карандашной точкой, которая двигается по плану, расстеленному на столе, и по квадрату "X", обведенному красной чертой. И хотя Матвей Кобылкин, повертев план, всего лишь матерно спросил, почему это такой квадрат, командирам подразделений было сообщено, что квадрат "X" взят под контроль ставкой, что в итоге – то есть перед запуском двигателей – стало указанием, чтоб в этот фигов квадрат "X" ни один X не совал свой нос от греха подальше. И потому площадь Застрельщиков, обозначенная этой неудачной буквой, была пуста и тиха, как колодец, и, поглядывая на разноцветье ракет, то и дело взлетающих по сторонам, Анна без всяких затруднений доскакал до прогала меж домов, который издали тоже казался пустым.
В прогале лежал одноног. Анна еще никогда не видел лежащих одноногое и не сразу понял, что урод мертв. Он лежал на брюхе, подмяв ручищи и вывернув головенку на манер оглядывания, будто его, прилегшего вздремнуть тут, у стены, разбудил неожиданный галоп. От него пахло морским животным. Брезгливо и аккуратно перешагнув какую-то лужицу, натекшую из-под головы, Анна заподозрил, что все-таки влез в эту дрянь и, свернув за угол, раза два пошуршал пяткой об асфальт.
Это движение следует считать спасительным, потому что, пошуршав, он оглянулся, а оглянувшись, увидел себя в четырех шагах от стаи одноногов, которая стояла скорбным кружком. Он заметил,что внутри кружка тоже лежит одноног, но уже в следующий момент бежал и вовсе не туда, куда хотел: четверо уродов ринулись вслед, штук шесть-семь растянулись в цепь, отсекая от площади Застрельщиков – или квадрата X, говоря оперативно-тактическим языком. Поэтому с каждым поворотом бежать становилось все светлей и тревожней, и, ткнувшись в Танковый проезд, Анна услыхал вдруг вопль "хромой, хромой! Гляди, хромой!", взревевший мотоцикл и – уже в затылок и вскачь – перехлест автоматных очередей.
"Фонари" дырявили воздух в три ствола, но гоняться за шустряком по развалинам никому не улыбалось. И второй наряд, от которого Анна, как в гнилой зуб, нырнул в завалившийся подъезд, просто-напросто покрошил из автоматов остатки оконных рам и застрекотал прочь. Правда, к этому времени Анна уже сиганул во двор и бежал к забору, думая всего об одной простой вещи: о том, что за забором должен быть переулок Маркшейдеров.
Он перемахнул забор как раз в тот миг, когда в небо, свиристя, взлетело шесть ракет враз. Это был почти салют. И, прыгнув в темноту, Анна вдруг оказался высвеченным со всех сторон. И как бы завис в прозрачности и в кошмаре, увидев – в упор – громадную черную морду.
Все произошло гораздо быстрей слов.
Вильнув влет, Анна опрокинулся назад. Когда он вскочил, ночь только начала осыпаться в переулок, и громадная морда, прежде чем сойти во тьму, успела сделаться лошадиной головой. Но это было еще хуже, потому что лошадиная голова приказала стоять.
– Не то пальну! Прям в лоб.
Анна ткнулся в забор. Вероятно, это гляделось весело: в ответ послышался фырк, но очень краткий, будто забранный в горсть.
– Ей-бог – пальну! – пережав фырк, пообещал голосишко.– Кто таков? Ну?
– Свой,– глупо бормотнул Анна.
– О-ой! Один хрен – пальну! Пальну и все тут. Слышь, нет? Все, паляю уже, слышь? Раз, два, три!
На счет "три" раздался длительный неприличный звук, который издает рассохшаяся табуретка, за ним – дождавшись конца – редкозубое хихиканье, а из-за лошадиной головы повысунулась еще одна, в развислом треухе и с бородой.
2
– Сво-ой! – пропищал мужичок, передразнив табуретный писк.– Вот оно и видать, что свой! У меня и оружиев-то никаких. Я ить тебя, парнишечка, надул. А? Хорошо ли надул?
– Хорошо,– отозвался Анна.
– Во! – Мужичок каким-то нахальным движением скосил ушастую голову вбок.– А закурить у тебя, к примеру, есть?
– Закурить? Нет, закурить нет.
– А-а! То-то, брат, и выходит, что никакой ты не свой,– рассудил мужичок. – Потому, ежели б ты был свой, у тебя было бы закурить. Вот я свой, и у меня есть. И во всякое время могу закурить. Вот спички найду и – закурю.
– У меня есть спички,– сказал Анна.
– Ну, енто ничего не значит,– махнул мужичок.– Я ж говорю – обронил. Может, ты мои и подобрал… Ну да ладно, иди-кось, что ль, садись.
– Куда?
– Вестимо куда. На задок – куда… На передке-то, чать, я сам сидеть буду. Али как по-твоему?
– А может… я пойду? – осторожно спросил Анна.
– Пойде-ошь? – взявши лошадь под уздцы, мужичок малость подернул ее повдоль улицы, отчего на обзор с ведерным бряком выкатилась тележка-таратайка. – Вот оно и видать, какой ты есть свой. А ежели б ты был свой,– сентенциозно заметил он,– ты б знал, что отсюдова тебе, парнишечка, никакого такого ходу нету. И ежели не на лошаде, враз придет тебе, беспортошному, непременный карачун. Садися, говорю… О, вона, глянь, и хромой! А говоришь – свой…
Несмотря на заскорузлость выражений, вроде непременного карачуна, мужичок говорил правильно.
Конечно, не без втирания очков при помощи суеты, но переулок Маркшейдеров был запечатан глухо. И ракеты, празднично прыская ввысь, освещали то пеший наряд, то мотоциклетный разъезд, которые – в знак соседства с домоуправлением – были в белых касках и, набегая на мерина, тыкали ему в морду фонарями и гукали в уши. Но мерин пер напролом, а закуривший мужичок гнал их криком "не балуй!" и через плечо уличал Анну, который – ежели б был свой – то, конечно б, знал, что мерина звать Васькой, а Матвей хоть и Кобылкин, а все одно дурак, потому что Васька слепой, как пуп, от бессрочной подземельной ксплатации, и ездить на нем нет никакой возможности, а потерять спички при такой езде – самое понятное дело, и потеряны они, видать, на улице Инвалидов, откуда он привез уже четырех упокойников и послан за пятым – усатым.
Понимая так, что речь идет об издержках облавы, Анна пропустил последнее сообщение мимо ушей. Без интереса миновал и тот ехидный факт, что усатый был необходим вынь да положь, поскольку на ентой гниде, как на заднице, живой волос не растет, а больно охота. Анну насторожило пущенное вслед: что ентот гад ковыряется, как свинья в катяхах, а четверо доставленных были забракованы по причине худобы.
Посмотрев в ведро, которое брякало возле ноги, Анна осторожно поинтересовался, а чем же плох худой. Хлестнув Ваську и заорав "ну-кось, разойдися, эй", мужичок рассудительно ответил, что енто уж кому как обожается, и у кого какой, к примеру, любимый скус.