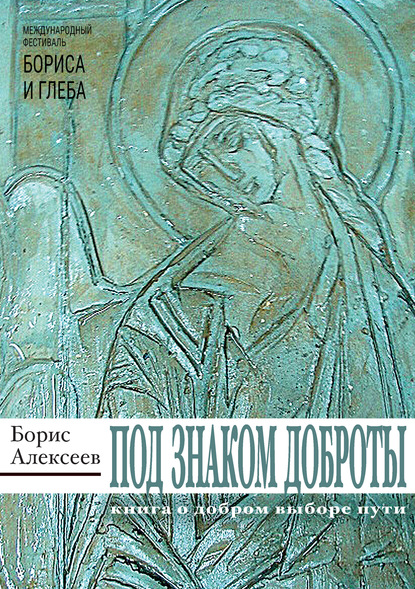По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под знаком доброты
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Под знаком доброты
Борис Алексеевич Алексеев
Международный фестиваль Бориса и Глеба
Нам дана свободная воля, чтобы мы могли сделать осознанный выбор между добром и злом.
Ежесекундно добро и зло предлагают нам «свои услуги» на жизненном пути. Оба, расталкивая друг друга, напрашиваются в провожатые. И мы, подсаживая одного из них на облучок, должны понимать, что выбираем не кучера, а место, где в конце концов окажемся со всем скарбом прожитой жизни.
Новая книга Бориса Алексеева «Под знаком доброты» повествует о людях, последовавших за добрым поводырём и наставником. Довериться добру и в то же время неустанно испытывать на себе козни зла непросто. Но люди, идущие доброй дорогой, – особенные. Они видят солнце даже за плотной силиконовой подошвой облаков. Это люди-подсолнухи. Они поворачивают голову в сторону незримого источника света и терпеливо ждут его появления. Ожидание придаёт им силы.
Пожелаем читателю доброго чтения и душевного согласия с автором.
Борис Алексеев
Под знаком доброты
Алексеев Борис Алексеевич
Москвич. Профессиональный иконописец и литератор. Член Московского союза художников. Имеет два ордена Русской православной церкви. Член Союза писателей России (Московская городская организация). Пишет стихи и прозу. Выпустил ряд книг, в т. ч. книгу стихов «Житейское море» и три книги прозы: «Кожаные ризы» (рассказы, жанровая проза), «Неделя длиною в жизнь» (сборник эссе) и «Планета-надежда» (фантастика).
Лауреат Премии Гиляровского и Серебряный лауреат Международной литературной премии «Золотое перо Руси – 2016». Финалист национальной литературной премии «Писатель года – 2017». Дипломант литературной премии Союза писателей России «Серебряный крест – 2018». Дипломант Литературного конкурса Союза писателей России «Лучшая книга года» (2016–2018). Награждён медалью И. А. Бунина «За верность отечественной литературе» (Союз писателей России, декабрь 2019 г.).
Живёт и работает в Москве.
Глава 1. Плоды сердечной аритмии
(сборник рассказов)
Картина
Сквозь утренний сон Георгий Макарыч ощутил привычное трепетание пространства. Так и есть, будильник взывал к продолжению давным-давно начатой жизни.
«Э-э-э, нет, – усмехнулся Макарыч, как фокусник, жонглируя дрёмой. – Не на того напал! Расхотелось мне жизнь подгонять, пискун ты неразборчивый. Тебе что первоклассника несмышлёного будить, что народного художника России – одна забота!..»
Вечером накануне он лёг глубоко за полночь и теперь нежился в постели, победоносно поглядывал на часы и неторопливо собирался с мыслями.
Наконец обе стрелки сошлись в подбрюшье циферблата. Время перевалило за половину седьмого. Георгий решительно откинул одеяло, поднялся, сделал пару энергичных движений корпусом и, шаркая, направился в ванную.
Восьмидесятилетие, которое он справил неделю назад, неотступно волновало старого художника. Желание откликнуться на прошедшее семейное событие новой большой картиной реально созрело в его творческом воображении. Георгий Макарыч принадлежал к когорте добротных московских живописцев, учившихся основам художественного ремесла ещё у Коржева и Нисского. Более полувека советский реализм служил Макарычу верным «боевым товарищем» во всяком начинании. Уж в чём в чём, а в умении убедительно положить на левкас красочный замес равных Макарычу не было.
Который день он вглядывался в гулкую мембрану огромного натянутого на подрамник холста, любовно гладил ладонью его лощёную пемзой поверхность и затаив дыхание представлял будущую картину.
Написать семейное застолье, изобразить детей, внуков, многочисленных родственников и друзей в едином славословии в честь прожитой человеческой жизни – вот что грело его сердце, понуждая обратиться вновь к крупному живописному формату.
Он уже давно не писал больших картин. С возрастом пришло понимание, что и в малом можно отразить значительное со всей его масштабной монументальностью. Но сейчас ему хотелось раскрыть задуманную тему нарочито громко, будто вбежать из малогабаритной хрущёвки в огромный колонный зал, сверкающий огнями люстр и наполненный шарканьем танцующих. На старости лет в нём проснулся молодой, неугомонный Пушкин. Казалось, всё вокруг него, Пушкина, податливо задвигалось, зашаркало, закружилось! Этот явный каприз души напомнил Георгию поздние графические портреты Фешина, в которых периферийные элементы изображения вовлекались в дивный танец вокруг взгляда портретируемого.
Георгий выдавил на палитру краски и взял небольшой муштабель, на конце которого был укреплён рисовальный уголёк. Он всегда выдавливал краски ещё до разметки рисунка. Чарующий запах цветных масляных паст возбуждал его как художника и требовал скорейшего завершения графического этапа работы.
Многолетний опыт всякий раз напоминал ему: недосказанность в начальном рисунке оборачивается в живописной работе непредвиденными досадными переделками. Поэтому, не считаясь со временем, Макарыч намечал рисунок, проверял его с разных расстояний, тщательно закреплял и только потом приступал к живописи. Но, как и прежде, перед началом работы первым делом выдавливал на палитру краски и любовался их ароматными количествами.
Георгий обладал абсолютной зрительной памятью. Ему не нужно было выкладывать на стол ворох семейных фотографий: он помнил каждого. Более того, он помнил, кто где сидел неделю назад, во что был одет. В некоторых случаях Георгий мог восстановить в памяти даже перечень блюд на столе.
«А ведь у меня явное преимущество перед божественным Рембрандтом и великолепным Репиным! – думал он, нанося штрихи на холст. – И «Ночной дозор», и «Торжественное заседание Государственного совета» хороши, но и Рембрандт, и Репин писали их на заказ, не любя, ради денег, славы и живописи. Я же влюблён в свои персоналии! Они у меня в сердце. И напишу я моих ненаглядных не ради житейской триады, но ради самого себя. За работу, дружище!»
К вечеру Георгий завершил первый этап так называемого живописного подмалёвка. Без уточнения деталей на холст легли основные пятна, проявив в цвете рисунок будущей картины. Кисть Георгия трудилась свободно и легко, по-фешински оставляя чарующий фактурный след строго по форме намеченного изображения.
…Первые признаки странного поведения картины появились после того, как напольный «брегет» гулко отсчитал шесть вечерних ударов. Георгий отошёл от картины, чтобы заварить чай в маленькой кухоньке, отгороженной от рабочего зала скромной тюлевой занавеской. Он наливал из заварного чайничка в стакан огненно-розовую дымящуюся смесь каркаде и липового чая, как вдруг за шторкой послышался приглушённый разговор. Голоса показались ему знакомыми. Он отставил чайник и раздвинул тюлевые половинки. Прислушался. В мастерской стояла абсолютная тишина. С минуту оглядывая начатую картину придирчивым глазом, Макарыч вдруг заметил, что внук Серёженька, которого он наметил справа вверху возле дочери Алёны, почему-то переместился совершенно в другую половину картины и сидит на коленях Николая Матвеича, тоже художника, давнего товарища Георгия, ещё по Суриковке.
Всё остальное было вроде на месте. Георгий уже хотел подойти к холсту и исправить странную оплошность, но вдруг заметил, что общая композиция картины от перемещения внука только выиграла и получила дополнительное изобразительное равновесие.
Покачав головой, художник задёрнул шторку и вернулся к чаю. Он вспомнил, как сам неделю назад разносил гостям китайский заварной чайник и разливал по чашечкам точно такое же огненное волшебство! Гости оборачивались к нему и по очереди нахваливали его гостеприимную и ароматную церемонию. А потом из огромного, полутораведёрного, электрического самовара (подарок сына Ивана на семидесятилетие) все наливали дымящийся кипяток и, хрустя плитками слоёного «Наполеона», распивали чай под весёлые нескончаемые разговоры…
– Ну ты пострел! Ни минуты на месте! – за шторкой отчётливо прозвучал голос Николая Матвеича.
– Дядя Коля, да вы ж его всё равно не удержите! – засмеялась в ответ Алёнка.
Послышался шум падающих тарелок.
– О господи, ну, Серёжка, погоди! – отозвался хриплый старческий голосок Марии, жены Георгия.
Все засмеялись…
От неожиданности Георгий поперхнулся и опрокинул стакан с чаем. Перегнувшись через кухонный столик, он вытянутой рукой отдёрнул шторку. Всё по-прежнему было тихо. Но тут…
Стряхивая угольную пыльцу, налипшую на офицерский китель, сошёл с холста и присел перед картиной на ступеньку подиума сын Иван. Год назад (нет, пожалуй, года ещё не прошло) рано утром постучался он в дом. Мария открыла дверь, увидела сына – и в слёзы.
А Иван обнял мать, долго гладил её седые волосы, гладил и повторял:
– Мама, мама! Пули другим достались. По ним мы с тобой потом поплачем, вместе, по-офицерски.
Засмотрелся Георгий на картину. Холст-то почти дописан и будто улыбается, хорохорится перед ним. Любо-дорого поглядеть. Дописан с изяществом и мастерством необычайным. Всё на нём как живое. Но живость эта – не благополучная фотофиксация, а настоящая, коренная художественная правда, прямая и сильная. Будто говорит картина Георгию: «Я – как ты. Мы с тобой, брат Макарыч, за правду стояли и ещё постоим!».
А народу за столом – видимо-невидимо! И что особенно интересно: чаёвничают не только званные в тот вечер гостюшки да гостицы, а многие другие, о которых лишь поминали в застольных разговорах.
Вот рядком с Николаем сидит Егор Савельич, дядька Георгия по матери. Расстреляли его красные братишки в девятнадцатом за то, что помог бежать из плена простому мужику Потапу Взяли Потапа на хуторе. Чистили хутор от беляков, глядь – какой-то мужик огородами в лес пробирается. Догнать иуду! Догнали, заперли в сарай.
– Этот гад что-то знает, чует моя революционная интуиция! – сказал красный командир. – Не скажет, ядрёна вошь, – поутру расстреляем, и кончено.
Егора отрядили охранять классового врага. А мужик, как на грех, взмолился:
– Не знаю я ничего! Самого обобрали беляки, сутки в подвале хоронился, еле жив остался.
Ну Егор и пожалел его. Отпустил да пару раз стрельнул вдогонку: живи, человек!..
Перед братишками повинился: так, мол, и так, упустил. Разбудили красного командира. Тот пришёл злющий и с похмелья, не разбираясь, наган-то в Егора и разрядил, поганец. Фотокарточку Егорушки мать до последних дней хранила у себя.
Вспоминала: «Добрый он был, с детства комара не обидит. Хотел в семинарию поступать, а тут революция. На селе разнарядка: десять парней в Красную армию, не то лошадьми грозились взять. А как без лошади? Знамо, смерть. Вот он и вызвался добровольцем. И хоть годков имел всего пятнадцать, тогда в пачпорты не смотрели, винтовку держать можешь – значит, боец». Хоть и помер Егор молодым, мать его не иначе как Егором Савельичем величала.
Присел Георгий Макарыч возле сына на табурет, наблюдает, дивится умом: «Да как такое возможно?..». Глаза всё новые лица примечают. Вот между невесткой Еленой и тётушкой Розадой (не от слова «зад», а от слова «роза» – семейная шутка) сидит прадед по отцу Афанасий Гаврилыч. Вот уж был человек знатный и что ни на есть непредсказуемый! От природы обладал он лужёной шаляпинской глоткой, но в артисты идти никак не хотел. В конце концов отец его Гаврила Исаич сгрёб сына в охапку да привёз в Петербург на смотрины. Через знакомых разузнал о званой вечеринке в апартаментах самого Шаляпина. Пришёл с сыном, мол, так и так…
Борис Алексеевич Алексеев
Международный фестиваль Бориса и Глеба
Нам дана свободная воля, чтобы мы могли сделать осознанный выбор между добром и злом.
Ежесекундно добро и зло предлагают нам «свои услуги» на жизненном пути. Оба, расталкивая друг друга, напрашиваются в провожатые. И мы, подсаживая одного из них на облучок, должны понимать, что выбираем не кучера, а место, где в конце концов окажемся со всем скарбом прожитой жизни.
Новая книга Бориса Алексеева «Под знаком доброты» повествует о людях, последовавших за добрым поводырём и наставником. Довериться добру и в то же время неустанно испытывать на себе козни зла непросто. Но люди, идущие доброй дорогой, – особенные. Они видят солнце даже за плотной силиконовой подошвой облаков. Это люди-подсолнухи. Они поворачивают голову в сторону незримого источника света и терпеливо ждут его появления. Ожидание придаёт им силы.
Пожелаем читателю доброго чтения и душевного согласия с автором.
Борис Алексеев
Под знаком доброты
Алексеев Борис Алексеевич
Москвич. Профессиональный иконописец и литератор. Член Московского союза художников. Имеет два ордена Русской православной церкви. Член Союза писателей России (Московская городская организация). Пишет стихи и прозу. Выпустил ряд книг, в т. ч. книгу стихов «Житейское море» и три книги прозы: «Кожаные ризы» (рассказы, жанровая проза), «Неделя длиною в жизнь» (сборник эссе) и «Планета-надежда» (фантастика).
Лауреат Премии Гиляровского и Серебряный лауреат Международной литературной премии «Золотое перо Руси – 2016». Финалист национальной литературной премии «Писатель года – 2017». Дипломант литературной премии Союза писателей России «Серебряный крест – 2018». Дипломант Литературного конкурса Союза писателей России «Лучшая книга года» (2016–2018). Награждён медалью И. А. Бунина «За верность отечественной литературе» (Союз писателей России, декабрь 2019 г.).
Живёт и работает в Москве.
Глава 1. Плоды сердечной аритмии
(сборник рассказов)
Картина
Сквозь утренний сон Георгий Макарыч ощутил привычное трепетание пространства. Так и есть, будильник взывал к продолжению давным-давно начатой жизни.
«Э-э-э, нет, – усмехнулся Макарыч, как фокусник, жонглируя дрёмой. – Не на того напал! Расхотелось мне жизнь подгонять, пискун ты неразборчивый. Тебе что первоклассника несмышлёного будить, что народного художника России – одна забота!..»
Вечером накануне он лёг глубоко за полночь и теперь нежился в постели, победоносно поглядывал на часы и неторопливо собирался с мыслями.
Наконец обе стрелки сошлись в подбрюшье циферблата. Время перевалило за половину седьмого. Георгий решительно откинул одеяло, поднялся, сделал пару энергичных движений корпусом и, шаркая, направился в ванную.
Восьмидесятилетие, которое он справил неделю назад, неотступно волновало старого художника. Желание откликнуться на прошедшее семейное событие новой большой картиной реально созрело в его творческом воображении. Георгий Макарыч принадлежал к когорте добротных московских живописцев, учившихся основам художественного ремесла ещё у Коржева и Нисского. Более полувека советский реализм служил Макарычу верным «боевым товарищем» во всяком начинании. Уж в чём в чём, а в умении убедительно положить на левкас красочный замес равных Макарычу не было.
Который день он вглядывался в гулкую мембрану огромного натянутого на подрамник холста, любовно гладил ладонью его лощёную пемзой поверхность и затаив дыхание представлял будущую картину.
Написать семейное застолье, изобразить детей, внуков, многочисленных родственников и друзей в едином славословии в честь прожитой человеческой жизни – вот что грело его сердце, понуждая обратиться вновь к крупному живописному формату.
Он уже давно не писал больших картин. С возрастом пришло понимание, что и в малом можно отразить значительное со всей его масштабной монументальностью. Но сейчас ему хотелось раскрыть задуманную тему нарочито громко, будто вбежать из малогабаритной хрущёвки в огромный колонный зал, сверкающий огнями люстр и наполненный шарканьем танцующих. На старости лет в нём проснулся молодой, неугомонный Пушкин. Казалось, всё вокруг него, Пушкина, податливо задвигалось, зашаркало, закружилось! Этот явный каприз души напомнил Георгию поздние графические портреты Фешина, в которых периферийные элементы изображения вовлекались в дивный танец вокруг взгляда портретируемого.
Георгий выдавил на палитру краски и взял небольшой муштабель, на конце которого был укреплён рисовальный уголёк. Он всегда выдавливал краски ещё до разметки рисунка. Чарующий запах цветных масляных паст возбуждал его как художника и требовал скорейшего завершения графического этапа работы.
Многолетний опыт всякий раз напоминал ему: недосказанность в начальном рисунке оборачивается в живописной работе непредвиденными досадными переделками. Поэтому, не считаясь со временем, Макарыч намечал рисунок, проверял его с разных расстояний, тщательно закреплял и только потом приступал к живописи. Но, как и прежде, перед началом работы первым делом выдавливал на палитру краски и любовался их ароматными количествами.
Георгий обладал абсолютной зрительной памятью. Ему не нужно было выкладывать на стол ворох семейных фотографий: он помнил каждого. Более того, он помнил, кто где сидел неделю назад, во что был одет. В некоторых случаях Георгий мог восстановить в памяти даже перечень блюд на столе.
«А ведь у меня явное преимущество перед божественным Рембрандтом и великолепным Репиным! – думал он, нанося штрихи на холст. – И «Ночной дозор», и «Торжественное заседание Государственного совета» хороши, но и Рембрандт, и Репин писали их на заказ, не любя, ради денег, славы и живописи. Я же влюблён в свои персоналии! Они у меня в сердце. И напишу я моих ненаглядных не ради житейской триады, но ради самого себя. За работу, дружище!»
К вечеру Георгий завершил первый этап так называемого живописного подмалёвка. Без уточнения деталей на холст легли основные пятна, проявив в цвете рисунок будущей картины. Кисть Георгия трудилась свободно и легко, по-фешински оставляя чарующий фактурный след строго по форме намеченного изображения.
…Первые признаки странного поведения картины появились после того, как напольный «брегет» гулко отсчитал шесть вечерних ударов. Георгий отошёл от картины, чтобы заварить чай в маленькой кухоньке, отгороженной от рабочего зала скромной тюлевой занавеской. Он наливал из заварного чайничка в стакан огненно-розовую дымящуюся смесь каркаде и липового чая, как вдруг за шторкой послышался приглушённый разговор. Голоса показались ему знакомыми. Он отставил чайник и раздвинул тюлевые половинки. Прислушался. В мастерской стояла абсолютная тишина. С минуту оглядывая начатую картину придирчивым глазом, Макарыч вдруг заметил, что внук Серёженька, которого он наметил справа вверху возле дочери Алёны, почему-то переместился совершенно в другую половину картины и сидит на коленях Николая Матвеича, тоже художника, давнего товарища Георгия, ещё по Суриковке.
Всё остальное было вроде на месте. Георгий уже хотел подойти к холсту и исправить странную оплошность, но вдруг заметил, что общая композиция картины от перемещения внука только выиграла и получила дополнительное изобразительное равновесие.
Покачав головой, художник задёрнул шторку и вернулся к чаю. Он вспомнил, как сам неделю назад разносил гостям китайский заварной чайник и разливал по чашечкам точно такое же огненное волшебство! Гости оборачивались к нему и по очереди нахваливали его гостеприимную и ароматную церемонию. А потом из огромного, полутораведёрного, электрического самовара (подарок сына Ивана на семидесятилетие) все наливали дымящийся кипяток и, хрустя плитками слоёного «Наполеона», распивали чай под весёлые нескончаемые разговоры…
– Ну ты пострел! Ни минуты на месте! – за шторкой отчётливо прозвучал голос Николая Матвеича.
– Дядя Коля, да вы ж его всё равно не удержите! – засмеялась в ответ Алёнка.
Послышался шум падающих тарелок.
– О господи, ну, Серёжка, погоди! – отозвался хриплый старческий голосок Марии, жены Георгия.
Все засмеялись…
От неожиданности Георгий поперхнулся и опрокинул стакан с чаем. Перегнувшись через кухонный столик, он вытянутой рукой отдёрнул шторку. Всё по-прежнему было тихо. Но тут…
Стряхивая угольную пыльцу, налипшую на офицерский китель, сошёл с холста и присел перед картиной на ступеньку подиума сын Иван. Год назад (нет, пожалуй, года ещё не прошло) рано утром постучался он в дом. Мария открыла дверь, увидела сына – и в слёзы.
А Иван обнял мать, долго гладил её седые волосы, гладил и повторял:
– Мама, мама! Пули другим достались. По ним мы с тобой потом поплачем, вместе, по-офицерски.
Засмотрелся Георгий на картину. Холст-то почти дописан и будто улыбается, хорохорится перед ним. Любо-дорого поглядеть. Дописан с изяществом и мастерством необычайным. Всё на нём как живое. Но живость эта – не благополучная фотофиксация, а настоящая, коренная художественная правда, прямая и сильная. Будто говорит картина Георгию: «Я – как ты. Мы с тобой, брат Макарыч, за правду стояли и ещё постоим!».
А народу за столом – видимо-невидимо! И что особенно интересно: чаёвничают не только званные в тот вечер гостюшки да гостицы, а многие другие, о которых лишь поминали в застольных разговорах.
Вот рядком с Николаем сидит Егор Савельич, дядька Георгия по матери. Расстреляли его красные братишки в девятнадцатом за то, что помог бежать из плена простому мужику Потапу Взяли Потапа на хуторе. Чистили хутор от беляков, глядь – какой-то мужик огородами в лес пробирается. Догнать иуду! Догнали, заперли в сарай.
– Этот гад что-то знает, чует моя революционная интуиция! – сказал красный командир. – Не скажет, ядрёна вошь, – поутру расстреляем, и кончено.
Егора отрядили охранять классового врага. А мужик, как на грех, взмолился:
– Не знаю я ничего! Самого обобрали беляки, сутки в подвале хоронился, еле жив остался.
Ну Егор и пожалел его. Отпустил да пару раз стрельнул вдогонку: живи, человек!..
Перед братишками повинился: так, мол, и так, упустил. Разбудили красного командира. Тот пришёл злющий и с похмелья, не разбираясь, наган-то в Егора и разрядил, поганец. Фотокарточку Егорушки мать до последних дней хранила у себя.
Вспоминала: «Добрый он был, с детства комара не обидит. Хотел в семинарию поступать, а тут революция. На селе разнарядка: десять парней в Красную армию, не то лошадьми грозились взять. А как без лошади? Знамо, смерть. Вот он и вызвался добровольцем. И хоть годков имел всего пятнадцать, тогда в пачпорты не смотрели, винтовку держать можешь – значит, боец». Хоть и помер Егор молодым, мать его не иначе как Егором Савельичем величала.
Присел Георгий Макарыч возле сына на табурет, наблюдает, дивится умом: «Да как такое возможно?..». Глаза всё новые лица примечают. Вот между невесткой Еленой и тётушкой Розадой (не от слова «зад», а от слова «роза» – семейная шутка) сидит прадед по отцу Афанасий Гаврилыч. Вот уж был человек знатный и что ни на есть непредсказуемый! От природы обладал он лужёной шаляпинской глоткой, но в артисты идти никак не хотел. В конце концов отец его Гаврила Исаич сгрёб сына в охапку да привёз в Петербург на смотрины. Через знакомых разузнал о званой вечеринке в апартаментах самого Шаляпина. Пришёл с сыном, мол, так и так…