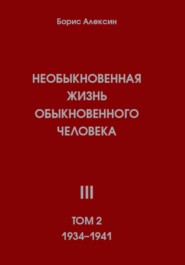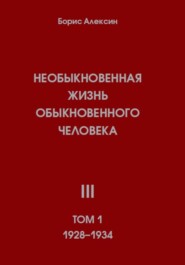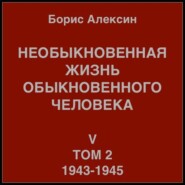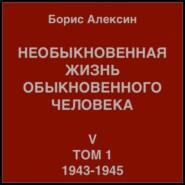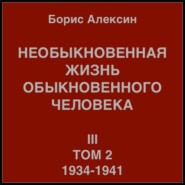По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До середины 1917 года Елена Болеславовна Пигута (Неаскина) продолжала служить машинисткой в своей торговой конторе. В июле контора внезапно закрылась, и Елена Болеславовна осталась без работы. Попытки устроиться в какое-либо другое учреждение успехом не увенчались.
Вскоре после Февральской революции многие иностранные фирмы стали свои филиалы и представительства закрывать, а русских служащих увольнять. Поэтому безработных мелких служащих в Петрограде появилось много.
Цены на самые необходимые продукты и предметы потребления росли не по дням, а по часам. В городе происходили перебои с хлебом, с другими продуктами они начались уже давно. Неаскина получала довольно приличное жалование, однако еле-еле могла на него существовать. Теперь, когда и этот источник средств закрылся, её положение стало совсем трудным. Как всегда, при всяких затруднениях, она обратилась за помощью к родным, и прежде всего к брату Мите. Письмо попало в руки Анне Николаевне, а мы знаем, как та относилась к родным мужа и в особенности к сестре Лёле, поэтому не удивимся, что последняя получила такую отповедь, которая надолго отбила у неё охоту просить помощи у брата. Тогда она решила отправиться к матери в Темников. Сделала она это, не предупредив её: свалилась как снег на голову в январе 1918 года.
Между тем Марии Александровне и самой было нелегко, ведь на её полном попечении находилось двое детей: Нинин Боря и Лёлина Женя. Дочь, приехавшая с полупустым чемоданом (большая часть вещей продана за последние месяцы жизни в Петрограде), без копейки денег, явилась неожиданной и тяжёлой обузой, поэтому нечего удивляться, что мать, зная характер своей старшей дочери, буквально в первый же день её появления потребовала немедленного устройства на службу или отъезда из Темникова.
Такое категоричное требование возмутило Елену Болеславовну, и она, посчитав, что причина этой категоричности в том, что матери приходится содержать сына Нины Борю, не желая выслушивать никаких доводов, с первого же дня возненавидела своего племянника и сохранила неприязнь к нему до самого его отъезда из Темникова.
Тем не менее с требованиями матери нужно было считаться, и на следующий день Елена отправилась искать службу. И если в прошлый приезд найти работу она не сумела, то в этот раз её взяли сразу. К этому времени в уездном совдепе появилась пишущая машинка системы «Ундервуд», реквизированная у какого-то чиновника, а квалифицированной машинистки не было: стучал на машинке кто придётся, одним пальцем, и напечатанные таким образом бумаги выходили столь корявыми, что большинство служащих предпочитало писать их по-старому – пером.
Елену Болеславовну, показавшую своё умение, приняли сразу. Установили ей сравнительно большой оклад, так что она была уже в состоянии содержать не только себя, но и дочь. Материальное положение семьи улучшилось.
Мария Александровна отвела дочери и внучке самую лучшую и тёплую комнату в квартире – свою бывшую спальню. Сама же поселилась в одной из маленьких комнат, в которой раньше жила квартирантка-гимназистка; в другой такой же маленькой комнате спал Боря.
Всё было бы неплохо, если бы не чрезвычайное себялюбие Елены Болеславовны, её нежелание считаться с кем-либо или с чем-либо, её болезненная, внезапно появившаяся любовь к дочери, постоянные капризы, упрёки, слёзы и истерики, от которых страдали все в доме. Особенно доставалось Боре, и он, замечая постоянную несправедливость к нему со стороны тётки, а иногда и слыша её грубые, оскорбительные слова, которыми та, не стесняясь его присутствия, при каких-нибудь ссорах с матерью, обзывала его, в свою очередь, никаких родственных чувств к сестре своей матери не испытывал, а временами просто ненавидел её.
Брат Марии Александровны Пигуты – Александр Александрович Шипов после Февральской революции продолжал исполнять обязанности управляющего Государственным казначейством, и хотя положение с финансами республики становилось всё хуже, а выпуск ничем не обеспеченных дензнаков Временного правительства, так называемых керенок, и вовсе доконал беспрерывно падающий рубль, продолжал прилагать все силы и умение, чтобы хоть как-нибудь спасти тонущий финансовый корабль России.
Октябрьская революция застала его на том же посту. Он был в числе немногих крупных чиновников, беспрекословно признавших новый режим и подчинившихся ему. Но в то же время нужно прямо сказать, что сущности советской власти Александр Александрович не понимал: он был слишком далёк от революционной борьбы народа и ко многим революционерам относился со снисхождением, считая их фантазёрами и утопистами. И вот когда эти «фантазёры», причём самые крайние из них, вдруг оказались у власти, старый чиновник растерялся, но, проведя несколько бессонных ночей, решил этой власти помогать.
К такому решению его привели два обстоятельства: во-первых, он видел, что предыдущие правительства были озабочены стремлением сохранить собственные богатства и растащить из средств государства кто сколько сумеет, и, во-вторых, новая советская власть первыми же декретами, поразившими его своей прямотой, даже некоторой наивностью, показала, что она стремится упрочить своё положение именно тем, чтобы эти государственные богатства сохранить и спасти финансовое положение страны. А это было и его целью. Поэтому он с первых же дней отдал себя на службу новой власти с полной преданностью и сумел привлечь к этому большинство своих подчинённых.
Конечно, лишение роскошной барской жизни, к которой он привык, шокировало, обижало, ведь из огромного особняка ему оставили всего две комнаты, а во все остальные вселили каких-то бедняков, реквизировав большую часть его мебели. Пришлось отказаться почти от всей прислуги и от роскошного выезда, которым он ранее следовал в казначейство, значительно снизилось жалование. Но все эти издержки обращения, как он их в шутку называл, возмещались тем, что он продолжал трудиться на любимом поприще и видел, что его знания, его труд в соответствующих местах ценят.
Нельзя сказать, что всё происходило так спокойно и просто, как мы это описываем более полвека спустя. Почти все знакомые, принадлежавшие к высшему чиновному миру, от Александра Александровича отвернулись. Не поняли его даже некоторые родственники, и только одна сестра Мария Александровна Пигута, получив известие о переменах, происшедших в его жизни, и о решении служить новому советскому правительству не за страх, а за совесть, одобрила его.
А между тем рубль продолжал падать. Многие чиновники из Государственного банка, из других финансовых органов республики и из самого министерства продолжали саботировать решения нового правительства, умышленно путать и не исполнять идущих от Совета народных комиссаров распоряжений. Всё это заставляло трудиться Шипова сверх всякой меры, находиться в постоянном нервном напряжении и тратить массу жизненных сил. А их оставалось немного, ведь ему было уже больше семидесяти лет.
В 1918 году Совнарком реорганизовал финансовую систему государства – Государственное казначейство и его филиалы упразднялись. Всю финансовую деятельность сосредоточил в своих руках новый орган советской власти – Народный комиссариат финансов. Естественно, что при такой реорганизации кое-кто из служащих прежних учреждений, хотя бы и временно, оставался без работы. В таком положении оказался и Александр Александрович Шипов. Это известие дошло и до его сестры Марии Александровны, вот как она об этом сообщает сыну Дмитрию в письме от 19 декабря 1918 года:
«Вчера получила грустное письмо от Кати Лебедевой. Она пишет, что брата Сашу лишили места, и он поехал в Москву искать работу… Так тяжело это слышать!»
Но такие работники, как Шипов, были нужны советской власти, и потому, как только стали организовываться отделы нового комиссариата финансов – финотделы, его привлекли к работе, и он был назначен начальником финансового отдела во вновь организованной Иваново-Вознесенской губернии, куда и переехал на жительство. В этой должности он прослужил до самой своей смерти, а умер он в 1921 году от сыпного тифа.
* * *
Чтобы закончить описание этого периода времени, необходимо ещё вспомнить о втором муже Нины Болеславовны и о её двух младших детях. Кое-как пристроив Славу и Нину у родственников и передав Борю Марии Александровне Пигуте, Николай Геннадиевич Мирнов вместе со своей частью отправился в действующую армию. Во время нахождения в медленно ползущем эшелоне он вновь и вновь обдумывал положение своих детей. В действующей армии ведь его могли убить, а дети формально по закону даже не числились его детьми. Они продолжали носить фамилию и даже отчество первого, законного мужа Нины Болеславовны – Алёшкина. Это было не только обидно, это было страшно…
«Ну а если я не вернусь с войны, – думал Николай Геннадиевич, – тогда Алёшкин, формально считаясь отцом Славы и Нины, должен будет их взять и воспитывать. Вряд ли он на это согласится, а если и даст согласие, то каково будет положение этих малышей? Ведь у Алёшкина, кроме Бори, есть ещё дети. Да неизвестно, где находится Алёшкин, жив ли он? А моя мать и остальные родственники вряд ли захотят воспитывать детей, носящих чужую фамилию и даже отчество. Надо что-то придумать. Но что? К кому обратиться за советом?»
И Николай Геннадиевич решает просить совета у человека, проявившего к нему много участия и оказавшего немалую помощь. Написав письмо Александру Александровичу Шипову, он получает от него квалифицированный совет и содействие. При его помощи он подаёт прошение в Святейший Синод, в котором просит разрешение на усыновление своих собственных детей. Через некоторое время ему стало известно, что его просьба может быть удовлетворена только в том случае, если законный муж Нины Болеславовны не заявит протеста. Вопрос этот будет разрешаться в консистории Брянской губернии (епархии), куда приписан Алёшкин как уроженец этой губернии.
По справкам, наведённым Александром Александровичем Шиповым обо всех особенностях этого дела, выяснилось, что, кроме согласия Алёшкина, необходимы метрические выписки на обоих детей и ещё целый ряд документов, которые бы устанавливали имущественный ценз, семейное положение и место постоянного жительства лица, ходатайствовавшего об усыновлении, то есть самого Мирнова. А он, рядовой солдат действующей армии, естественно, ничего пока представить не мог. Так и затянулась эта история на неопределённый срок.
Николай Геннадиевич, захватив около года окопной жизни, месяца через четыре после Февральской революции, при начале развала царской армии вместе с тысячами таких же солдат покинул фронт и поехал разыскивать остатки своей семьи. Он вернулся в Солигалич и поступил на свою прежнюю должность инструктора-пчеловода в сентябре 1917 года.
Происшедшая в стране революция на уклад жизни глухого провинциального городка, не имевшего никакой промышленности, окружённого лесами, болотами, бедными деревеньками и сёлами, утонувшими в густых хвойных лесах севера Костромской губернии, никакого влияния не оказала. Так же, как и в Темникове, сбросили с присутственных мест царские гербы, также исчезли более или менее крупные городские чиновники, да кое-кто из именитых горожан. Всё остальное осталось без изменений.
Как и всюду, со сказочной быстротой росли цены на все товары, а некоторые и совсем исчезли. Жизнь даже в таком захолустье становилась труднее, и тем не менее первой мыслью Мирнова, как только он получил службу, была мысль о детях. Вопрос с усыновлением их всё ещё не был решён, но он надеялся, что после революции всё будет демократичнее – проще, и поэтому хотел как можно скорее взять их к себе.
В то же время он понимал, что ему одному при службе, связанной с беспрестанными разъездами, с воспитанием малышей не справиться. Как всегда, в таких случаях нашлись добрые советчики, убедившие его поскорее жениться. Невеста – немолодая девица из сельских учительниц, Варвара Фёдоровна Попова, жила в Николо-Берёзовце, хорошо знала и самого Николая Геннадиевича, и его покойную жену, и вопрос о свадьбе решился в несколько дней.
Засидевшись в девичестве, Варвара Фёдоровна торопилась выйти замуж. Мирнов пользовался хорошей репутацией, и, хотя девушку и пугали имевшиеся у будущего мужа дети, она по легкомыслию надеялась, что всё обойдётся. Так же думал и Мирнов, он был рад, что нашёл своим детям человека, способного, как он надеялся, заменить мать. После свадьбы, состоявшейся в начале октября 1917 года, молодые решили месяц-другой пожить одни, обустроиться, а там уже и перевезти детей. Но… В конце октября произошла другая революция – Великая Октябрьская, и намеченные планы осуществить не удалось.
Перемена власти в Солигаличе произошла в декабре 1917 г. без какого-либо кровопролития. Так, как будто одна вывеска сменилась другой. Сущности новой власти большинство служащих уездной управы не представляли, тем более что почти все они остались служить на своих местах. Изменилось название: вместо управы стал совдеп, как его все называли, то есть Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Во главе его встал рабочий-большевик, приехавший из Костромы.
Новая власть стала вводить и новые порядки, но они не коснулись таких служащих, как Мирнов и его новая жена-учительница, они продолжали служить. Правда, Николай Геннадиевич на фронте не раз слыхал выступления ораторов-большевиков, некоторых даже знал лично, выдвигаемые ими лозунги о немедленном мире, отобрании земли у помещиков и об организации на фабриках рабочего контроля считал хотя и прогрессивными, но полагал, что осуществление их возможно лишь в отдалённом будущем. И вот, когда в Солигаличе у власти встали большевики, и выдвигаемые ими лозунги стали конкретными планами, он не очень-то поверил в их выполнимость и прочность. Впрочем, так думал не он один, так думали и многие его сослуживцы. А он в этот период, кроме того, был слишком поглощён своими личными делами: устройством хозяйства и первыми днями жизни с новой женой.
Но в середине декабря 1917 года он получил телеграмму от тётки из Ярославля, требовавшей его немедленного приезда за сыном. Тянуть дольше было нельзя, и Николай Геннадиевич выехал в Ярославль. Там он узнал, что дядя принимал какое-то участие в заговоре против нового правительства и поэтому арестован, тётка не знает, что делать, и заниматься сейчас Славой, конечно, не может. Мирнов понимал, что как-то помочь дяде не сможет, и потому, забрав сына, в этот же вечер уехал из Ярославля, но поехал он не в Солигалич, а в Кострому, чтобы проведать мать и решить вопрос о дочери.
В Костроме он узнал, что положение его матери весьма незавидное. С установлением новой власти выплата ей пенсии за мужа прекращена, и она с маленькой Ниной находилась без всяких средств. Она привязалась к маленькой внучке, но была бы рада, если бы Коля взял её к себе. Однако на этот шаг Николай Геннадиевич не решился.
Отдав матери почти все имевшиеся при нём деньги и дав обещание ежемесячно высылать ещё, он упросил её пока подержать Нину у себя. За несколько месяцев жизни с новой женой он понял, что Варвара Фёдоровна вряд ли сумеет стать его детям хорошей матерью, и потому брать маленькую девочку, требовавшую особых забот, не решился. Видимо, он был прав.
Привезённого Славу его жена встретила весьма сдержанно. Мальчик болел какой-то кожной болезнью: почти всё его тело покрывали гнойные корки. Ему был необходим самый тщательный уход, настоящая материнская ласка, а Варвара Фёдоровна к материнству оказалась неприспособленной, её тяготила забота даже о муже, и создать нужные условия больному ребёнку она не смогла. Понятно, что при такой обстановке взять второго ребёнка оказывалось совершенно невозможным.
Так он и написал матери. Ну а уж о старшем – Боре он не думал и вовсе, даже и не сообщил его бабушке о своём возвращении с фронта и о новой женитьбе. Обо всём этом Пигута узнала значительно позже и от совершенно посторонних людей.
Невесело начался новый 1918 год в семье Мирновых, а через несколько месяцев положение в ней ещё более осложнилось. Николая Геннадиевича мобилизовали в Красную армию рядовым красноармейцем и вместе с наскоро сформированными частями отправили на Северный фронт для отпора высадившемуся в Архангельске английскому десанту и ликвидации сформировавшегося при поддержке этого десанта белогвардейского правительства Чайковского.
Не очень-то хотелось молодому человеку, недавно испытавшему ужасы войны, только что женившемуся, видевшему всю неустроенность его детей от первого брака, снова идти на фронт, но на дезертирство он не решился, а каких-либо других причин для уклонения от мобилизации у него не было. Кроме того, он уже успел поверить в прочность новой власти и был уверен, что правительство, созданное по указке иностранцев, долго не продержится, война эта скоро кончится, и он вернётся домой. Но вернуться домой ему так и не довелось.
В молодой, только что сформированной Красной армии не хватало не только оружия и боеприпасов, но и тёплой одежды, обуви, достаточного количества продовольствия. Большинство носило солдатские шинели и сапоги, привезённые с германского фронта. Всё это плохо защищало от холода, а воевать пришлось в суровых условиях Севера, и многие красноармейцы погибли не столько от вражеских снарядов и пуль, сколько от простудных заболеваний.
Надежды Николая Геннадиевича на быстрое окончание Гражданской войны не оправдались. Имея мощную поддержку от правительства Британии, так называемое правительство Северной области продолжало держать в своих руках Северный край европейской России.
Осенью 1918 года Мирнов заболел воспалением лёгких и, пролежав в лазарете около двух недель, скончался. Его молодой жене стало известно об этом в начале 1919 года. Продолжать воспитывать ребёнка мужа от первого его брака она, конечно, не захотела и поэтому как можно скорее постаралась от него избавиться. Она отвезла Славу к бабушке в Кострому.
Пришлось Анне Петровне Мирновой оставить у себя и второго ребёнка сына, хотя она просто не представляла, как и на что они будут существовать. Её младшего сына Юру тоже мобилизовали в Красную армию, и он находился где-то в Сибири.
Оба малыша на руках у Анны Петровны теперь оказались круглыми сиротами, да к тому же ещё и незаконными, ведь они продолжали носить фамилию Алёшкины. В отчаянии бедная женщина решила обратиться к родственникам этих ребят со стороны матери, и прежде всего к их дяде, Дмитрию Болеславовичу Пигуте. Узнав от костромских знакомых его адрес, она послала ему письмо.
Получив этот вопль о помощи, тот не замедлил на него откликнуться и немедленно выслал кое-какую сумму. С этого времени на Дмитрия Болеславовича легла и ещё одна материальная забота: постоянная поддержка детей сестры. Кроме того, он сообщил о тяжёлом положении младших детей Нины и матери, которая, в свою очередь, стала почти регулярно помогать Анне Петровне, посылая, главным образом, детские вещи, из которых выросли Борис или Женя.
Глава двадцатая
Вначале февраля 1918 года в Темников пришёл большой вооруженный отряд, там были солдаты, рабочие и крестьяне. Говорили, что отряд этот с крупной железнодорожной станции Рузаевка и из села Теньгушево, но толком никто ничего не знал. Земскую управу закрыли, вместо неё организовали совдеп. Что это такое, большинство темниковских жителей не представляло, но было известно, что это новые органы городской и уездной власти, которые теперь после новой революции, происшедшей в столицах ещё в октябре прошлого года, будут во всех городах и сёлах. Говорили также, что управлять в этих совдепах будут большевики и представители от рабочих, солдат и крестьян.
Подобные толки и пересуды вызвали немало недоумений среди знакомых Марии Александровны Пигуты, многие из них слышал Боря, и хотя они и нашли уголок в его памяти, вспомнил он о них лишь много лет спустя.
Ходили слухи также и о том, что все школы будут закрыты, а учителя разогнаны; кому и зачем надо было распространять такие слухи, в то время понимали очень немногие.
Произошли и другие изменения, и прежде всего была распущена народная милиция, которая, по правде сказать, в последние месяцы только числилась, а своих охраняющих функций не выполняла. Члены её были разоружены и отправлены по домам. Охрану порядка в городе взял на себя вновь прибывший отряд, разместившийся частью в здании бывшего полицейского участка, частью в казарме. Случаи хулиганства и грабежей резко сократились; по городу ходили вооружённые патрули из людей этого отряда, называвшиеся красногвардейскими патрулями; около некоторых зданий поставили часовых, и в городе стало спокойнее.
В течение двух-трёх дней в Темникове арестовали всех бывших помещиков, осевших в городе или вернувшихся после не длительной отлучки, городского голову, председателя уездной управы и других царских чиновников, занимавших более или менее высокие посты. В числе других была арестована и Мария Александровна Пигута. Пробыла она под арестом в камере бывшего полицейского участка одни сутки, а затем, по ходатайству учителей гимназии, организованному Замошниковой, обратившейся с ним к командиру красногвардейского отряда, была отпущена домой. Да он и сам видел, что эта шестидесятитрёхлетняя старушка арестована напрасно.
Кстати сказать, через несколько дней вообще большинство арестованных интеллигентов, в их числе директор мужской гимназии Чикунский, единственный в городе адвокат Лазаревич и многие другие, также были освобождены.