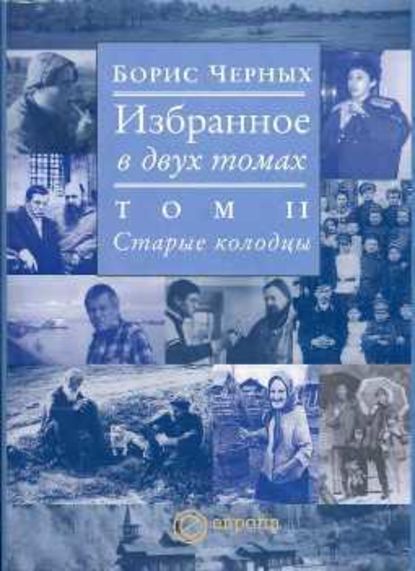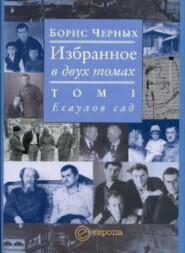По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старые колодцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Клерк.
Я расхохотался, ибо ответ был стопроцентно точен. Писатель-клерк, кто же еще.
Тут Джимми выглянул в коридор и воскликнул:
– Хок!– компания сорвалась и убежала, а по коридору поползли динозавры в белых халатах. Динозавры шипели:
– Опять! Где они взяли шляпы?! И кто им разрешил шлындать по чужим палатам?..
Динозавры ворвались к нам и грозно вопросили меня:
– Потворствуете безобразию?
– Потворствую. Но в чем безобразие? Кинг приподнял полковника на двадцать сантиметров от пола. Силушку некуда девать. В чем же безобразие?
– Как? Пацан поднял лежачего больного!
– Я не больной, черт побери!– взревел полковник.
– Успокойтесь, Гаенко. Нам лучше знать ваше состояние.
– Состояние,– прохрипел Гаенко.– Вы меня довели…
– Не довели, но доведем,– рявкнул старший из динозавров, и они удалились.
Теперь надо сказать,что действие сей крохотной пьесы развернулось в психоневрологическом диспансере города И-ска, время свершения пьесы 1978 год. А мальчики – Чарли, Джимми, Стэнли и Кинг – все из Г-го предместья, некогда основанного уральскими казаками, к 1978 году вполне обустроенного, с широкими улицами, покрытыми асфальтом, с палисадами. А средняя школа в Г-во та община, которая поторопилась отречься от мальчиков. Разумеется, я не мог не полюбопытствовать у докторов, почему школа отреклась. Мне не должны были отказать. В этом отделении я сохранял особое положение. Меня не трогали, не обследовали, не дергали по пустякам. Не навязывали медицинские препараты, хотя робкие попытки делались: «Б.И., надо успокаивающее недельку попринимать. Пустячок, неделю»,– однако я и без того оставался спокоен.. Пласт жизни, тяжелой, смурной, в трудах и испытаниях, иногда изнурительных, отошел, и мне казалось, я не уклонился исполнить положенное мне Провидением. Родил сына и дочь, сходил на баррикады. Под баррикадами я имею в виду вот что: начитавшись Герцена, Плеханова и само собой Владимира Ильича (от корки до корки все пятьдесят томов), в 1965 году написал письмо съезду комсомола, назвав его «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения». Я предложил махонькую поправку в переустройство общества. Разумеется, я был свирепо бит, лишился партбилета, но достоинства не потерял, напротив, чувствовал себя в нравственной силе. Я шел по жизни, осознавая, что Голгофа впереди. И я понял, у меня есть перо. Сам Борис Николаевич Полевой вызвал меня к себе после очерка «Весенние костры»,– очерк о военном топографе Владимире Питухине и о городе Свободном (тогдашняя цензура запретила называть город, Свободный остался в очерке под грифом С.),– усадил напротив и сказал, пыхнув сигаретой: «У тебя перо, бъющее сердце навылет! Я велел строки не трогать в “Кострах”. Работай, и все состоится». Я и работал втихомолку. В последние годы я успел написать «Старые колодцы», или исследование «История одного колхоза», где не сфальшивил и не слукавил, спрятал подальше, ибо в стране не было смельчака-редактора, который бы решился печатать «Колодцы». Почему я и был спокоен.
Но и доктора, к коим доставили меня чекисты в воронке, понимали, что перед ними не отрок-ковбой Чарли, и пребывали все время с виноватыми глазами, вежливыми до приторности… Да, но мальчики. Что они успели натворить? Письмо съезду комсомола не написали. В журнале «Юность» и в «Литературной России» не печатались. Дерзкие публичные речи не произносили, «Старые колодцы» не сочинили и не спрятали в тайник. Может быть, они баловались наркотиками? Или с кастетами у подъездов в сумерках стояли?..
С настырными вопросами я пристал к заведующему отделением диспансера. Крупный и добродушный еврей, но весь в комплексах, каждодневно он демонстрирует пациентам увлечение пудовыми гирями. Психов, стало быть, пугает, осознавая, что они не совсем психи, поймут-де. Завотделением вскипятил чайник. В обеденный перерыв, когда коллеги его удалились, мы присели накоротке. За решеткой окна тенькают синицы, зав походя, сквозь железные завеси, ссыпает синицам хлебные крошки. И молчит, обдумывая, как дипломатичней повести себя, но, махнув толстой, волосатой рукой, говорит:
– Б.И., вы славянин, и на том стоите. Так представьте, славянин, в окраинной школе, хотя Г-во отнюдь не окраина, но тем опаснее, появляется группа сильных подростков, а их семеро, это мы сюда забрали четверых, а трое остались под надзором органов. И все семеро (великолепная семерка, усекаете?!) одержимы культом Америки, или скажем прямо, буржуазностью…
– Но ковбои не буржуазность…. – фраза эта прозвучала несколько косноязычно, но по сути точно: скотоводы, дельцами ковбои никогда не были.
– У них и кодекс чести есть, сродни казаческому,– добавил я.
– Заблуждаетесь,– отвечал зав,– сто пятьдесят лет тому назад ковбои несли знамя своеобразной чести. Впрочем, казаки ваши (пардон!) тоже хороши. Могли за так убить соперника.
– Мушкетеры льют рекой кровь, а мы все читаем и читаем Дюма.
Зав издалека с прищуром посмотрел на меня. Я поежился. Я совсем запамятовал, что я пациент психушки, и даже в этой беседе меня слушают двойным слухом.
– Так эта семерка стала диктовать советской школе заокеанский стиль. Малыш Кинг навязал старшеклассникам обращение к девочкам «Моя мадонна», ни больше, ни меньше…
Я тихо усмехнулся:
– Мадонна – Богоматерь.
– Бога мать!– воскликнул зав. – Они вкладывают совсем другой смысл в это понятие.
– Какой?
– Догадайтесь, Б. И.
– Не могу.
– Две мадонны уже понесли. В девятом классе.
– И что же дальше?
– Дальше они выпустили стенную газету «Манхэттен», напичканную сплошь американизмами, вражескими идеалами, где свобода нравов на первом месте. Правда, директриса успела сорвать газету. Но экая буря разразилась. Ведь в школе объявили конкурс стенных газет, а «Манхэттен» вдруг сняли. Произвол-де!
– Интересно, в самом деле. Объявлен конкурс стенных газет. Условия конкурса наверняка невнятные. И мальчики перестарались в творческом раже. Но последствия со стороны учителей?! Репрессии?
– Снять разнузданную газету, вы полагаете, репрессии?
– Похоже на первый этап репрессий.
– Далее парни провели несанкционированный митинг с требованием убрать из школьной программы обществоведение. Потом они предложили заменить в эмблеме школы, на фронтоне, профиль Павки Корчагина на профиль Веньки Малышева.
– ??
– Ну, этот тип из Нилинской «Жестокости». Который застрелился. Застрелился потому, что, по повести Нилина, плененный в Гражданскую войну повстанец был арестован и этапирован. В то время как оперативный сотрудник Малышев обещал повстанцу, в обмен на добровольную сдачу, свободу. Совестливого Веньку Малышева на место бессовестного-де Корчагина. Каково?!..
Разговор с завом крайне заинтриговал меня. Но более всего занимала концовка. Чем все это завершилось? Бузой? Школьным бунтом?
– Нет,– спокойно отвечал зав.– Спектаклем. В прекрасный майский день, тому полтора месяца, теплынь на дворе, к школе явились тридцать подростков, наряженных ковбоями, с пистолетами на задницах…
– То есть?
– Сделали деревянные кобуры и деревянные пистолеты, черные, лакированные. Брезентовые ремни само собой. Где-то добыли старую кобылу, в поводу привели. Привязали у парадного входа школы, потоптались для антуража. Сбегается вся школа. Уроки сорваны.
– Да, сюжет.
– Теперь смотрите, что далее ждало бедных учителей. Школьный буфет пацаны переименовывают в бунгало, или как там на диком Западе? Хотя Техас это юг Штатов? Но потом что? Казино? Ночной жокей-клуб?.. Не дай бог зараза эта пойдет буйным цветом по школам. Но мы их остановили.
– Но почему таким способом, дичее дикого Запада?
– А что иное можно придумать? Они же не уголовники. И они у нас на профилактике, понимаете? Мы наблюдаем за ними в условиях частичной изоляции, и только.
– Но выводы делаете?
– Неадекватность поведения налицо. Они смещенно видят мир. Значит, есть серьезный психический сдвиг.
– Но разве этот самый сдвиг опасен для общества?
– С выводами погодим. Но себе, похоже, судьбу они надломили.
Я расхохотался, ибо ответ был стопроцентно точен. Писатель-клерк, кто же еще.
Тут Джимми выглянул в коридор и воскликнул:
– Хок!– компания сорвалась и убежала, а по коридору поползли динозавры в белых халатах. Динозавры шипели:
– Опять! Где они взяли шляпы?! И кто им разрешил шлындать по чужим палатам?..
Динозавры ворвались к нам и грозно вопросили меня:
– Потворствуете безобразию?
– Потворствую. Но в чем безобразие? Кинг приподнял полковника на двадцать сантиметров от пола. Силушку некуда девать. В чем же безобразие?
– Как? Пацан поднял лежачего больного!
– Я не больной, черт побери!– взревел полковник.
– Успокойтесь, Гаенко. Нам лучше знать ваше состояние.
– Состояние,– прохрипел Гаенко.– Вы меня довели…
– Не довели, но доведем,– рявкнул старший из динозавров, и они удалились.
Теперь надо сказать,что действие сей крохотной пьесы развернулось в психоневрологическом диспансере города И-ска, время свершения пьесы 1978 год. А мальчики – Чарли, Джимми, Стэнли и Кинг – все из Г-го предместья, некогда основанного уральскими казаками, к 1978 году вполне обустроенного, с широкими улицами, покрытыми асфальтом, с палисадами. А средняя школа в Г-во та община, которая поторопилась отречься от мальчиков. Разумеется, я не мог не полюбопытствовать у докторов, почему школа отреклась. Мне не должны были отказать. В этом отделении я сохранял особое положение. Меня не трогали, не обследовали, не дергали по пустякам. Не навязывали медицинские препараты, хотя робкие попытки делались: «Б.И., надо успокаивающее недельку попринимать. Пустячок, неделю»,– однако я и без того оставался спокоен.. Пласт жизни, тяжелой, смурной, в трудах и испытаниях, иногда изнурительных, отошел, и мне казалось, я не уклонился исполнить положенное мне Провидением. Родил сына и дочь, сходил на баррикады. Под баррикадами я имею в виду вот что: начитавшись Герцена, Плеханова и само собой Владимира Ильича (от корки до корки все пятьдесят томов), в 1965 году написал письмо съезду комсомола, назвав его «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения». Я предложил махонькую поправку в переустройство общества. Разумеется, я был свирепо бит, лишился партбилета, но достоинства не потерял, напротив, чувствовал себя в нравственной силе. Я шел по жизни, осознавая, что Голгофа впереди. И я понял, у меня есть перо. Сам Борис Николаевич Полевой вызвал меня к себе после очерка «Весенние костры»,– очерк о военном топографе Владимире Питухине и о городе Свободном (тогдашняя цензура запретила называть город, Свободный остался в очерке под грифом С.),– усадил напротив и сказал, пыхнув сигаретой: «У тебя перо, бъющее сердце навылет! Я велел строки не трогать в “Кострах”. Работай, и все состоится». Я и работал втихомолку. В последние годы я успел написать «Старые колодцы», или исследование «История одного колхоза», где не сфальшивил и не слукавил, спрятал подальше, ибо в стране не было смельчака-редактора, который бы решился печатать «Колодцы». Почему я и был спокоен.
Но и доктора, к коим доставили меня чекисты в воронке, понимали, что перед ними не отрок-ковбой Чарли, и пребывали все время с виноватыми глазами, вежливыми до приторности… Да, но мальчики. Что они успели натворить? Письмо съезду комсомола не написали. В журнале «Юность» и в «Литературной России» не печатались. Дерзкие публичные речи не произносили, «Старые колодцы» не сочинили и не спрятали в тайник. Может быть, они баловались наркотиками? Или с кастетами у подъездов в сумерках стояли?..
С настырными вопросами я пристал к заведующему отделением диспансера. Крупный и добродушный еврей, но весь в комплексах, каждодневно он демонстрирует пациентам увлечение пудовыми гирями. Психов, стало быть, пугает, осознавая, что они не совсем психи, поймут-де. Завотделением вскипятил чайник. В обеденный перерыв, когда коллеги его удалились, мы присели накоротке. За решеткой окна тенькают синицы, зав походя, сквозь железные завеси, ссыпает синицам хлебные крошки. И молчит, обдумывая, как дипломатичней повести себя, но, махнув толстой, волосатой рукой, говорит:
– Б.И., вы славянин, и на том стоите. Так представьте, славянин, в окраинной школе, хотя Г-во отнюдь не окраина, но тем опаснее, появляется группа сильных подростков, а их семеро, это мы сюда забрали четверых, а трое остались под надзором органов. И все семеро (великолепная семерка, усекаете?!) одержимы культом Америки, или скажем прямо, буржуазностью…
– Но ковбои не буржуазность…. – фраза эта прозвучала несколько косноязычно, но по сути точно: скотоводы, дельцами ковбои никогда не были.
– У них и кодекс чести есть, сродни казаческому,– добавил я.
– Заблуждаетесь,– отвечал зав,– сто пятьдесят лет тому назад ковбои несли знамя своеобразной чести. Впрочем, казаки ваши (пардон!) тоже хороши. Могли за так убить соперника.
– Мушкетеры льют рекой кровь, а мы все читаем и читаем Дюма.
Зав издалека с прищуром посмотрел на меня. Я поежился. Я совсем запамятовал, что я пациент психушки, и даже в этой беседе меня слушают двойным слухом.
– Так эта семерка стала диктовать советской школе заокеанский стиль. Малыш Кинг навязал старшеклассникам обращение к девочкам «Моя мадонна», ни больше, ни меньше…
Я тихо усмехнулся:
– Мадонна – Богоматерь.
– Бога мать!– воскликнул зав. – Они вкладывают совсем другой смысл в это понятие.
– Какой?
– Догадайтесь, Б. И.
– Не могу.
– Две мадонны уже понесли. В девятом классе.
– И что же дальше?
– Дальше они выпустили стенную газету «Манхэттен», напичканную сплошь американизмами, вражескими идеалами, где свобода нравов на первом месте. Правда, директриса успела сорвать газету. Но экая буря разразилась. Ведь в школе объявили конкурс стенных газет, а «Манхэттен» вдруг сняли. Произвол-де!
– Интересно, в самом деле. Объявлен конкурс стенных газет. Условия конкурса наверняка невнятные. И мальчики перестарались в творческом раже. Но последствия со стороны учителей?! Репрессии?
– Снять разнузданную газету, вы полагаете, репрессии?
– Похоже на первый этап репрессий.
– Далее парни провели несанкционированный митинг с требованием убрать из школьной программы обществоведение. Потом они предложили заменить в эмблеме школы, на фронтоне, профиль Павки Корчагина на профиль Веньки Малышева.
– ??
– Ну, этот тип из Нилинской «Жестокости». Который застрелился. Застрелился потому, что, по повести Нилина, плененный в Гражданскую войну повстанец был арестован и этапирован. В то время как оперативный сотрудник Малышев обещал повстанцу, в обмен на добровольную сдачу, свободу. Совестливого Веньку Малышева на место бессовестного-де Корчагина. Каково?!..
Разговор с завом крайне заинтриговал меня. Но более всего занимала концовка. Чем все это завершилось? Бузой? Школьным бунтом?
– Нет,– спокойно отвечал зав.– Спектаклем. В прекрасный майский день, тому полтора месяца, теплынь на дворе, к школе явились тридцать подростков, наряженных ковбоями, с пистолетами на задницах…
– То есть?
– Сделали деревянные кобуры и деревянные пистолеты, черные, лакированные. Брезентовые ремни само собой. Где-то добыли старую кобылу, в поводу привели. Привязали у парадного входа школы, потоптались для антуража. Сбегается вся школа. Уроки сорваны.
– Да, сюжет.
– Теперь смотрите, что далее ждало бедных учителей. Школьный буфет пацаны переименовывают в бунгало, или как там на диком Западе? Хотя Техас это юг Штатов? Но потом что? Казино? Ночной жокей-клуб?.. Не дай бог зараза эта пойдет буйным цветом по школам. Но мы их остановили.
– Но почему таким способом, дичее дикого Запада?
– А что иное можно придумать? Они же не уголовники. И они у нас на профилактике, понимаете? Мы наблюдаем за ними в условиях частичной изоляции, и только.
– Но выводы делаете?
– Неадекватность поведения налицо. Они смещенно видят мир. Значит, есть серьезный психический сдвиг.
– Но разве этот самый сдвиг опасен для общества?
– С выводами погодим. Но себе, похоже, судьбу они надломили.