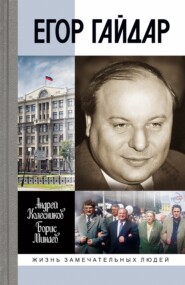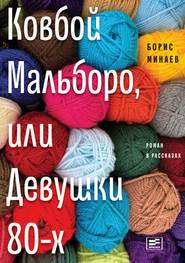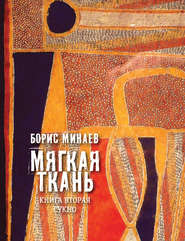По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мягкая ткань. Книга 1. Батист
Автор
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вера была прекрасным человеком, – торопливо сказал доктор. – Вы понимаете это?
– Я понимаю, – отозвался Бурлака и налил в мензурки себе и доктору. – Давайте, доктор. Давайте помянем вашу жену. Это не наш обычай, я знаю, не советский, но что же делать.
Доктор молча кивнул, выпил.
– Только не плачьте – сказал Бурлака. – Вид плачущих мужчин меня убивает.
– Да не буду я плакать, – сердито откликнулся доктор. – Иван Петрович, вы мне поможете?
– Не знаю, – покачал головой Бурлака. – Просто не знаю, что и делать. Как-то странно это все.
– Иван Петрович, дорогой, – заторопился доктор. – Поверьте на слово. Я без этого просто не смогу жить. Хотя бы на первое время… На первое время…
Потом доктор написал на бумажке список необходимых препаратов и пошел в хирургическую за инструментами.
Бурлака меж тем принялся составлять документ.
Документ на бланке больницы, а верней, горздравотдела, необходимо было составить такой силы и такой хитрости, чтобы никто, включая милиционеров, дворников и прочих разных грубых и малограмотных людей, с одной стороны, не мог бы усомниться в его подлинности, а с другой – не стал бы вникать глубоко в его суть.
Из документа в конце концов получалось, что тело покойной супруги главного врача Киевской городской больницы товарища Весленского, Штейн Веры Марковны, необходимое для серии научных экспериментов, является собственностью упомянутой горбольницы и не подлежит захоронению в общем установленном порядке.
Написав «в общем установленном порядке», Бурлака окончательно успокоился, налил себе в мензурку слегка разбавленного спирта, зажевал свежим огурцом и лег на кушетку, смешно подогнув ноги.
Он знал, что накануне сегодняшнего вечера ему необходимо поспать.
Препараты достали легко. Все они имелись в больнице в достаточном количестве, и перенести их вдвоем (в двух докторских саквояжах) Весленскому и Бурлаке не составляло никакого труда.
Труднее было с инструментами, а главная, нехорошая трудность ждала их с пресловутым инъектором д-ра Выводцева.
Решив с утра главный вопрос – с Бурлакой (то есть действуя строго по плану), доктор немедленно помчался в городскую библиотеку города Киева, где взял всю имеющуюся литературу о бальзамировании трупов. Потратив не менее двух часов на лихорадочное конспектирование, доктор вдруг ясно понял, что никакого инъектора он в ближайшие часы не достанет и что придется обходиться как-нибудь без него, а именно – обычными шприцами большого объема.
Следующий вопрос – как сделать так, чтобы в больнице не заметили внезапного исчезновения такого большого количества скальпелей, зажимов, шприцев и другого, – доктор решил очень просто – работать ночью. В ночное время в их больнице, за редчайшим исключением, никаких операций не производится, поэтому и инструменты в это время вряд ли кому могут понадобиться.
Сказав все это, доктор три раза прочел уже проштампованный печатью документ, аккуратно сложил его и спрятал в карман пиджака.
Успокоенный Бурлака пошел принимать очередную комиссию, а сам доктор – больных.
А потом наступил вечер. Вечер второго дня.
Вообще, надо сказать, что доктор Весленский был личностью неординарной и до описываемых событий.
Известно о нем было, например, то, что во время операции во фронтовом госпитале (на полях, так сказать, сражений Первой мировой войны) произошел с доктором некоторый тяжкий конфуз.
Операция была тяжелая, полостная, и Весленский был в очень большом напряжении, когда мимо него вдруг прошла делегация.
Делегация эта, помимо фронтового начальства, содержала в себе и кого-то из членов царской фамилии, а именно, некое лицо женского пола: возможно, великую княжну Ольгу, или Анастасию, а то и саму императрицу Александру Федоровну.
Все эти женщины, кстати, включая Александру Федоровну, не раз бывали в госпиталях и даже работали сестрами милосердия. То есть делегация сама по себе была делом если не будничным, то вполне понятным, и поэтому, когда Весленский вдруг резко перестал оперировать и заорал истошным диким голосом: «Стоп! Выйдите вон! Вы мешаете работать!», на мгновение в просторной лазаретной палатке наступила мертвая тишина. Никто не знал, как быть и что делать дальше.
Однако самый вид доктора, склонившегося в окровавленном халате над распластанным телом, и его безумный левый глаз, как бы остановившийся и глядевший куда-то в сторону, в пустоту, был так убедителен и так одновременно хорош, что тишина стала быстро исчезать, высокая гостья произнесла несколько слов на французском и вместе со своей свитой изящно ретировалась, строго-настрого приказав не применять к доктору никаких дисциплинарных взысканий и, боже упаси, вообще никак его за этот случай не наказывать.
То, что штабной генерал, сопровождавший высокую гостью, начал отвечать чересчур громко, чересчур ретиво, и к тому же под руку врачу, совершавшему операцию, было как раз всем понятно, и что инструкции были даны ее высочеством (или величеством) самые что ни на есть прямые, тоже было всем очевидно… тем не менее с этих самых пор блистательная карьера военврача Весленского как-то не задалась.
Не было ни продвижения по службе, ни наград, ни чего-то еще, чего, может быть, доктор ожидал, да и вообще отношение к нему стало как-то суше, опасливее и холодней: ведь случай был весьма нерядовой, разнесся быстро по всем фронтам и был воспринят весьма неоднозначно, так что болезненное это высказывание, хотя и вполне корректное для фронтовой медицины, в рамках, так сказать, более общих пошло гулять себе и жить своей жизнью, нанося непоправимые удары воинской иерархии, дисциплине, а стало быть, и всей службе, и всей армии в целом.
Но вот что знаменательно: если карьера доктора (военная, а потом по инерции и штатская) пострадала, то сама жизнь его, судьба Весленского, по большому счету была спасена.
Ибо началась революция, и куда бы доктор с тех пор ни попадал, в каких бы сложных обстоятельствах ни оказывался, всюду о нем начинали судачить: «А, это тот самый, который…» и всюду эта легенда, дополняемая все новыми подробностями, деталями, штрихами, шла за ним следом. И доктора… не трогали.
Для всех властей, таким образом, доктор Весленский был не просто врачом, а тем самым врачом, символом, так сказать, гражданского бесстрашия, или честности, или чего-то еще, что было даже и не совсем понятно, не совсем переводимо на обычный язык, и оттого доктор благополучно пережил все революционные годы и годы Гражданской войны.
Именно об этом, то есть о незаурядности, исключительности и предназначении, и говорил с доктором в ту ночь Иван Петрович Бурлака.
– Послушайте, – говорил он Весленскому. – Послушайте меня, мой дорогой. Я знаю, что вы ее очень сильно любили. Я это понимаю. Если бы я этого не понимал, я бы не стоял сейчас здесь. Но вот я стою здесь, подавляя в себе страх, и тошноту, и ужас, я стою здесь ради вас, только ради вас, дорогой мой. Именно поэтому я прошу вас, вот сейчас, выслушать меня. Дело ведь не в том, как пройдет операция. И добьемся ли мы с вами… удачного результата… – Бурлака немного помолчал. – Но… вы простите меня, доктор, я думаю сейчас больше о том, что же будет дальше. После этого. Вы ведь не просто врач. Вы, может быть, великий врач. И от того, как сложится ваша жизнь, зависит и жизнь очень многих людей. То есть в прямом смысле. Выживут ли они. Жизнь их зависит, понимаете? Так зачем же мы с вами сейчас хотим погубить все эти человеческие жизни, которые вы должны спасти вашими руками и вашей мыслью? Ведь то, что мы хотим с вами сделать… доктор… то, что вы хотите сделать… это, знаете ли, пахнет мистикой и… каким-то, вы знаете, нездоровым, не нашим, не советским отношением к смерти. Одно дело – вождь пролетариата, другое дело – жена. Вы хоть это понимаете? И что будет с вами после этого, так сказать, эксперимента, я сказать затрудняюсь. Честное слово, затрудняюсь.
Все это Бурлака говорил, подняв руки, согнутые в локтях, кверху – как делают все хирурги перед операцией. И доктор стоял тоже в белом халате и в той же позе. Они стояли по разные стороны обеденного стола, на котором лежала Вера Штейн. Ярко горела люстра, белели простыни, поблескивали инструменты, мутно и в то же время как-то таинственно блистали растворы в склянках. И самым опасным и нестерпимым в этом пейзаже было тело Веры. Одно лишь это тело, не говоря уж про все остальное, красноречиво свидетельствовало о том, что отступать им некуда.
– Ну, с богом, дорогой Иван Петрович, – просто сказал Весленский. – Во время операции разрешаю вам пить спирт, но осмотрительно.
Весленский то и дело соотносил свои действия с конспектами. Все надрезы он делал крайне бережно, а составы вводил крайне аккуратно.
– Вы извините, доктор, – сказал Бурлака в середине этой ночи, – но мне на вас даже как-то смотреть неудобно. Как будто вы с ней что-то такое…
– А вы и не смотрите, – сухо ответил доктор. – Или думайте о чем-нибудь своем.
Думать, впрочем, было особенно некогда, доктор и Бурлака работали как сумасшедшие почти до утра.
Вообще идея привлечь к этому делу ассистента, как потом понял доктор, была совершенно гениальной.
Утром Бурлака вызвал карету «скорой помощи» и, отозвав лекарей на кухню, долго о чем-то с ними говорил, предъявив документ. Лекари не соглашались вначале, но затем, внимательно осмотрев тело и сочувственно покивав, попрощались и вышли, обещав вскорости предоставить доктору официальное свидетельство о смерти.
Затем явилась кухарка Елена.
С ней доктор говорил сам.
Единственное, что в его рассказе было выдумкой, это ни на чем не основанное утверждение, что тело нужно медицине для научного эксперимента, для обучения студентов и прочих медицинских надобностей, и хотя трогать его никто не будет, но находиться оно должно дома, для пущей сохранности, а с больницей (доктор кивнул на Бурлаку) он обо всем договорился.
Потрясенная Елена долго плакала, потом попросила показать ей Веру и расплакалась еще пуще.
Но вот что было поразительно, отметил про себя Бурлака: ни лекари «скорой помощи», ни кухарка – никто поначалу не выказывал никакого удивления, не впадал в крайний ужас, не умолял доктора отказаться от его безумной затеи. Елена осторожно осведомилась, где именно отныне будет находиться хозяйка и как за ней надобно ухаживать.
Она выслушала инструкции молча и, взяв рубль, отправилась, как всегда, на рынок.
Придя с рынка, где окончательно продышалась и успокоилась, Елена принялась за уборку. Убираться ей в тот день пришлось значительно больше обычного, голову кружили странные запахи, и доктор дал ей еще пятьдесят копеек, а сдачи с рынка не попросил.
Наконец, постояв еще немного у открытого настежь окна, Елена принялась за готовку. Доктор ведь должен чем-то питаться, о чем она с жалостью ему сообщила. Затем осторожно осведомилась, желает ли доктор борщ, и прикрыла за собой дверь в кухню.
Однако дожидаться борща Весленский с Бурлакой никак не могли, поскольку им следовало отправляться в больницу.
– Я понимаю, – отозвался Бурлака и налил в мензурки себе и доктору. – Давайте, доктор. Давайте помянем вашу жену. Это не наш обычай, я знаю, не советский, но что же делать.
Доктор молча кивнул, выпил.
– Только не плачьте – сказал Бурлака. – Вид плачущих мужчин меня убивает.
– Да не буду я плакать, – сердито откликнулся доктор. – Иван Петрович, вы мне поможете?
– Не знаю, – покачал головой Бурлака. – Просто не знаю, что и делать. Как-то странно это все.
– Иван Петрович, дорогой, – заторопился доктор. – Поверьте на слово. Я без этого просто не смогу жить. Хотя бы на первое время… На первое время…
Потом доктор написал на бумажке список необходимых препаратов и пошел в хирургическую за инструментами.
Бурлака меж тем принялся составлять документ.
Документ на бланке больницы, а верней, горздравотдела, необходимо было составить такой силы и такой хитрости, чтобы никто, включая милиционеров, дворников и прочих разных грубых и малограмотных людей, с одной стороны, не мог бы усомниться в его подлинности, а с другой – не стал бы вникать глубоко в его суть.
Из документа в конце концов получалось, что тело покойной супруги главного врача Киевской городской больницы товарища Весленского, Штейн Веры Марковны, необходимое для серии научных экспериментов, является собственностью упомянутой горбольницы и не подлежит захоронению в общем установленном порядке.
Написав «в общем установленном порядке», Бурлака окончательно успокоился, налил себе в мензурку слегка разбавленного спирта, зажевал свежим огурцом и лег на кушетку, смешно подогнув ноги.
Он знал, что накануне сегодняшнего вечера ему необходимо поспать.
Препараты достали легко. Все они имелись в больнице в достаточном количестве, и перенести их вдвоем (в двух докторских саквояжах) Весленскому и Бурлаке не составляло никакого труда.
Труднее было с инструментами, а главная, нехорошая трудность ждала их с пресловутым инъектором д-ра Выводцева.
Решив с утра главный вопрос – с Бурлакой (то есть действуя строго по плану), доктор немедленно помчался в городскую библиотеку города Киева, где взял всю имеющуюся литературу о бальзамировании трупов. Потратив не менее двух часов на лихорадочное конспектирование, доктор вдруг ясно понял, что никакого инъектора он в ближайшие часы не достанет и что придется обходиться как-нибудь без него, а именно – обычными шприцами большого объема.
Следующий вопрос – как сделать так, чтобы в больнице не заметили внезапного исчезновения такого большого количества скальпелей, зажимов, шприцев и другого, – доктор решил очень просто – работать ночью. В ночное время в их больнице, за редчайшим исключением, никаких операций не производится, поэтому и инструменты в это время вряд ли кому могут понадобиться.
Сказав все это, доктор три раза прочел уже проштампованный печатью документ, аккуратно сложил его и спрятал в карман пиджака.
Успокоенный Бурлака пошел принимать очередную комиссию, а сам доктор – больных.
А потом наступил вечер. Вечер второго дня.
Вообще, надо сказать, что доктор Весленский был личностью неординарной и до описываемых событий.
Известно о нем было, например, то, что во время операции во фронтовом госпитале (на полях, так сказать, сражений Первой мировой войны) произошел с доктором некоторый тяжкий конфуз.
Операция была тяжелая, полостная, и Весленский был в очень большом напряжении, когда мимо него вдруг прошла делегация.
Делегация эта, помимо фронтового начальства, содержала в себе и кого-то из членов царской фамилии, а именно, некое лицо женского пола: возможно, великую княжну Ольгу, или Анастасию, а то и саму императрицу Александру Федоровну.
Все эти женщины, кстати, включая Александру Федоровну, не раз бывали в госпиталях и даже работали сестрами милосердия. То есть делегация сама по себе была делом если не будничным, то вполне понятным, и поэтому, когда Весленский вдруг резко перестал оперировать и заорал истошным диким голосом: «Стоп! Выйдите вон! Вы мешаете работать!», на мгновение в просторной лазаретной палатке наступила мертвая тишина. Никто не знал, как быть и что делать дальше.
Однако самый вид доктора, склонившегося в окровавленном халате над распластанным телом, и его безумный левый глаз, как бы остановившийся и глядевший куда-то в сторону, в пустоту, был так убедителен и так одновременно хорош, что тишина стала быстро исчезать, высокая гостья произнесла несколько слов на французском и вместе со своей свитой изящно ретировалась, строго-настрого приказав не применять к доктору никаких дисциплинарных взысканий и, боже упаси, вообще никак его за этот случай не наказывать.
То, что штабной генерал, сопровождавший высокую гостью, начал отвечать чересчур громко, чересчур ретиво, и к тому же под руку врачу, совершавшему операцию, было как раз всем понятно, и что инструкции были даны ее высочеством (или величеством) самые что ни на есть прямые, тоже было всем очевидно… тем не менее с этих самых пор блистательная карьера военврача Весленского как-то не задалась.
Не было ни продвижения по службе, ни наград, ни чего-то еще, чего, может быть, доктор ожидал, да и вообще отношение к нему стало как-то суше, опасливее и холодней: ведь случай был весьма нерядовой, разнесся быстро по всем фронтам и был воспринят весьма неоднозначно, так что болезненное это высказывание, хотя и вполне корректное для фронтовой медицины, в рамках, так сказать, более общих пошло гулять себе и жить своей жизнью, нанося непоправимые удары воинской иерархии, дисциплине, а стало быть, и всей службе, и всей армии в целом.
Но вот что знаменательно: если карьера доктора (военная, а потом по инерции и штатская) пострадала, то сама жизнь его, судьба Весленского, по большому счету была спасена.
Ибо началась революция, и куда бы доктор с тех пор ни попадал, в каких бы сложных обстоятельствах ни оказывался, всюду о нем начинали судачить: «А, это тот самый, который…» и всюду эта легенда, дополняемая все новыми подробностями, деталями, штрихами, шла за ним следом. И доктора… не трогали.
Для всех властей, таким образом, доктор Весленский был не просто врачом, а тем самым врачом, символом, так сказать, гражданского бесстрашия, или честности, или чего-то еще, что было даже и не совсем понятно, не совсем переводимо на обычный язык, и оттого доктор благополучно пережил все революционные годы и годы Гражданской войны.
Именно об этом, то есть о незаурядности, исключительности и предназначении, и говорил с доктором в ту ночь Иван Петрович Бурлака.
– Послушайте, – говорил он Весленскому. – Послушайте меня, мой дорогой. Я знаю, что вы ее очень сильно любили. Я это понимаю. Если бы я этого не понимал, я бы не стоял сейчас здесь. Но вот я стою здесь, подавляя в себе страх, и тошноту, и ужас, я стою здесь ради вас, только ради вас, дорогой мой. Именно поэтому я прошу вас, вот сейчас, выслушать меня. Дело ведь не в том, как пройдет операция. И добьемся ли мы с вами… удачного результата… – Бурлака немного помолчал. – Но… вы простите меня, доктор, я думаю сейчас больше о том, что же будет дальше. После этого. Вы ведь не просто врач. Вы, может быть, великий врач. И от того, как сложится ваша жизнь, зависит и жизнь очень многих людей. То есть в прямом смысле. Выживут ли они. Жизнь их зависит, понимаете? Так зачем же мы с вами сейчас хотим погубить все эти человеческие жизни, которые вы должны спасти вашими руками и вашей мыслью? Ведь то, что мы хотим с вами сделать… доктор… то, что вы хотите сделать… это, знаете ли, пахнет мистикой и… каким-то, вы знаете, нездоровым, не нашим, не советским отношением к смерти. Одно дело – вождь пролетариата, другое дело – жена. Вы хоть это понимаете? И что будет с вами после этого, так сказать, эксперимента, я сказать затрудняюсь. Честное слово, затрудняюсь.
Все это Бурлака говорил, подняв руки, согнутые в локтях, кверху – как делают все хирурги перед операцией. И доктор стоял тоже в белом халате и в той же позе. Они стояли по разные стороны обеденного стола, на котором лежала Вера Штейн. Ярко горела люстра, белели простыни, поблескивали инструменты, мутно и в то же время как-то таинственно блистали растворы в склянках. И самым опасным и нестерпимым в этом пейзаже было тело Веры. Одно лишь это тело, не говоря уж про все остальное, красноречиво свидетельствовало о том, что отступать им некуда.
– Ну, с богом, дорогой Иван Петрович, – просто сказал Весленский. – Во время операции разрешаю вам пить спирт, но осмотрительно.
Весленский то и дело соотносил свои действия с конспектами. Все надрезы он делал крайне бережно, а составы вводил крайне аккуратно.
– Вы извините, доктор, – сказал Бурлака в середине этой ночи, – но мне на вас даже как-то смотреть неудобно. Как будто вы с ней что-то такое…
– А вы и не смотрите, – сухо ответил доктор. – Или думайте о чем-нибудь своем.
Думать, впрочем, было особенно некогда, доктор и Бурлака работали как сумасшедшие почти до утра.
Вообще идея привлечь к этому делу ассистента, как потом понял доктор, была совершенно гениальной.
Утром Бурлака вызвал карету «скорой помощи» и, отозвав лекарей на кухню, долго о чем-то с ними говорил, предъявив документ. Лекари не соглашались вначале, но затем, внимательно осмотрев тело и сочувственно покивав, попрощались и вышли, обещав вскорости предоставить доктору официальное свидетельство о смерти.
Затем явилась кухарка Елена.
С ней доктор говорил сам.
Единственное, что в его рассказе было выдумкой, это ни на чем не основанное утверждение, что тело нужно медицине для научного эксперимента, для обучения студентов и прочих медицинских надобностей, и хотя трогать его никто не будет, но находиться оно должно дома, для пущей сохранности, а с больницей (доктор кивнул на Бурлаку) он обо всем договорился.
Потрясенная Елена долго плакала, потом попросила показать ей Веру и расплакалась еще пуще.
Но вот что было поразительно, отметил про себя Бурлака: ни лекари «скорой помощи», ни кухарка – никто поначалу не выказывал никакого удивления, не впадал в крайний ужас, не умолял доктора отказаться от его безумной затеи. Елена осторожно осведомилась, где именно отныне будет находиться хозяйка и как за ней надобно ухаживать.
Она выслушала инструкции молча и, взяв рубль, отправилась, как всегда, на рынок.
Придя с рынка, где окончательно продышалась и успокоилась, Елена принялась за уборку. Убираться ей в тот день пришлось значительно больше обычного, голову кружили странные запахи, и доктор дал ей еще пятьдесят копеек, а сдачи с рынка не попросил.
Наконец, постояв еще немного у открытого настежь окна, Елена принялась за готовку. Доктор ведь должен чем-то питаться, о чем она с жалостью ему сообщила. Затем осторожно осведомилась, желает ли доктор борщ, и прикрыла за собой дверь в кухню.
Однако дожидаться борща Весленский с Бурлакой никак не могли, поскольку им следовало отправляться в больницу.