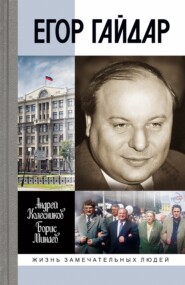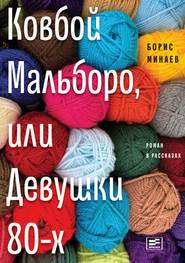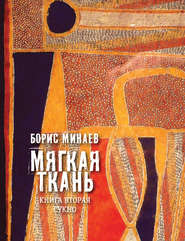По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мягкая ткань. Книга 1. Батист
Автор
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мягкая ткань. Книга 1. Батист
Борис Дорианович Минаев
Мягкая ткань #1Самое время!
Роман «Батист» Бориса Минаева – образ «мягкой ткани», из волокон которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная история – это и любовь, и предательство, и вечные иллюзии, и жажда жизни, и неотвратимость смерти. Герои романа – обычные люди дореволюционной, николаевской России, которые попадают в западню исторической катастрофы, но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа на вечность.
Борис Минаев
Мягкая ткань. Книга 1. Батист
© Борис Минаев, 2015
© «Время», 2015
* * *
Посвящается Дориану Михайловичу Минаеву
Глава первая
Доктор Весленский (1925)
7 июня у киевского доктора Весленского умерла жена.
Болезнь протекала стремительно. Наконец наступило утро, когда доктор, зайдя в ее комнату (сам он спал в соседней, открыв широко дверь и чутко прислушиваясь к каждому звуку), обнаружил жену уже холодной и тихой.
Весленский обмыл тело влажной губкой, переодел Веру в чистое белье и ушел. Днем он принимал больных, потом зашел в библиотеку и лишь вечером отправился обратно домой. Там перенес жену на обеденный стол в гостиную, под яркую люстру, и начал раздевать, вглядываясь во все то, что так хорошо знал. Вера была моложе его на пятнадцать лет. Нельзя сказать, что она была красавицей. Нет. Она не была красавицей: довольно рослая молодая девушка с длинными руками и ногами, маленькой грудью, смешным милым лицом.
Доктор, разумеется, знал, что задача, поставленная им самому себе, необыкновенно трудна. Читая и перечитывая труды по бальзамированию[1 - Бальзамирование – способы предохранения трупов от разложения и гниения; для этого мягкие части трупа обрабатывают веществами, предотвращающими эти процессы. Подобного рода бальзамирование было известно уже ассириянам, мидянам и персам, но наибольшего совершенства в искусстве Б. достигли древние египтяне. Египетский метод Б. был описан Диодором, но его описание во многих частях страдает неясностью. Можно полагать, что египтяне обладали многими методами Б. Самый совершенный состоял в опорожнении полости черепа с замещением мозга ароматическими веществами, в удалении всех внутренностей, пропитывании их ароматическими веществами и наполнении брюшной полости пахучими смолами или асфальтом. Затем производилось вымачивание всего трупа в растворах натриевых солей и наконец заворачивание его в непроницаемые для воздуха ароматизированные ткани. При египетском способе бальзамирования трупы не предохранялись от разложения – это доказывается простым осмотром мумий. Все мягкие части оказываются совершенно изменившимися в своем строении, и даже наружные формы их еле сохранены. Получается, что египтяне умели лишь превращать гниение в продолжительное изменение и распад тканей, что достигалось частью при помощи применения антисептических веществ, частью путем устранения доступа воздуха, частью условиями, способствовавшими высыханию трупа. В новейшее время Б. применяется крайне редко. Самый простой способ, известный с древних времен, – это высушивание трупов в сухих гробницах и склепах, где мумификация происходит сама собой. К числу искусственных способов относится обработка трупов препаратами, поглощающими влагу и свертывающими белковые вещества, например креозотом, древесным уксусом, некоторыми солями, особенно сулемой, мышьяком и другими минеральными средствами. Вводить их лучше всего путем впрыскивания растворов в кровеносные сосуды.], взятые в городской научной библиотеке, в частности статьи г-на Выводцева, по методу которого Весленский собирался действовать, доктор параллельно в уме производил подсчеты и даже рисовал в воображении некоторые пространственные схемы. В частности, он хотел понять, а сможет ли один воспользоваться инъектором Выводцева, чтобы ввести в тело необходимую жидкость, сможет ли сам справиться с операцией, сделать надрезы, наложить зажимы, ведь инструменты необходимо кому-то держать наготове, а члены усопшей – сохранять в неподвижности.
Но прежде чем приступить ко второй части своей работы, перейти к самому процессу подготовки тела и всего прочего необходимого, доктор хотел проститься с Верой, как он это называл про себя.
То есть в полном одиночестве, наедине с нею дать волю своим чувствам, причем сам он (называя это в уме именно так) вовсе не предполагал и даже не пытался понять, что значит – проститься, что это будет и как это будет, он просто твердо знал, что ему в этот момент ничто не должно мешать.
Плотно зашторив окна и заперев двери, доктор снял с тела и аккуратно сложил – на стуле, рядом с обеденным столом, – легкое покрывало.
Нельзя сказать, чтобы ему в этот момент ничего не мешало.
Ему мешали мысли, а если говорить точнее, это были его собственные страхи, материализовавшиеся в слова, в какие-то всполохи, как бывает летней ночью, во мраке, когда где-то вдалеке идет гроза и в мертвой духоте, теплоте лета, в его мягкой темноте вдруг образуется некая зона огня, как напоминание о другой жизни…
Так вот, эти мысли были совершенно неожиданными, и каждый раз, когда доктор пытался сосредоточиться на своем и уходил в это «свое» и глаза его переставали быть зрячими, он вдруг резко морщился и мелко тряс головой, пытаясь избавиться от навязчивых странных идей.
Идея первая была такой: что он сделал ошибку и Веру нельзя оставлять так надолго летом в душном запертом помещении. Что все кончится очень плохо, появится запах, Вера начнет меняться, в частности – цвет тела и его фактура. Хотелось выключить свет, открыть настежь окна, побежать к мяснику или еще куда-нибудь за большими, огромными кусками льда. Приходилось вновь и вновь убеждать себя, что ничего этого делать нельзя, что он не должен бояться, ибо знает, что надо, помнит все сроки, отмеренные часы, когда должен заняться вот этим и потом вот тем, что нельзя искусственно менять температуру тела сейчас, что ничего не должно произойти в ближайшие сутки, нужно просто делать то, что он себе наметил, по плану и дальше поступать точно так же – все по плану, все по часам, по минутам, все представлять себе заранее: куда идти, что говорить, что делать, какие могут быть препятствия и варианты, как эти препятствия обойти…
Сейчас по плану нужно было прощаться. Он обязан был сейчас сосредоточиться на прощании и прогнать эти мысли о том, что воздух в квартире не тот, что он задыхается вместе с ней, с Верой, от этого летнего киевского воздуха, наполненного шелестом листвы и гулом далеких голосов, что произойдет нечто неправильное, не по плану, он должен прощаться, и все, и больше ничего…
Вера лежала на обеденном столе. Она вечно обжигалась на кухне, когда что-то готовила: варила, пекла или жарила. Ее руки – запястья, ладони, локти – вечно были в следах от этих кухонных ожогов. Она любила для него готовить, хотя это могла бы делать кухарка. Но Вера любила сама печь для него сладкие пироги с вишней и яблоками, тушить мясо с черносливом, запекать утку в духовке. И почти каждый раз обжигалась.
Доктор сидел на стуле, придвинувшись к столу, как будто собирался взять крахмальную салфетку, заложить ее за ворот рубашки и налить первую рюмку водки. Весленский низко наклонился, прислонился лбом к локтю Веры и посмотрел на ее запястье.
Каждый раз эти ожоги, такие досадные для нее, вызывали у доктора острый приступ любви, и он, понимая это несоответствие, только молча дул на них, сухо объясняя Вере, сколько будет еще побаливать, и дул, дул, дул, отчего начинала кружиться голова и Вера рано или поздно оказывалась у него на коленях.
Он пытался понять, в чем причина этого постоянного травматизма: от неловкости ли ее или от рассеянности? от того, что голова ее постоянно занята чем-то другим, посторонним? – и так и не смог.
Возможно, именно ее рассеянность и стала истинной причиной этой страшной болезни, от которой она в конце концов умерла, ведь человек должен, просто обязан чувствовать опасность, кончиками пальцев, всей кожей чувствовать, что его окружает, пропитан ли воздух вокруг жизнью или смертью… А Вера всегда как будто не жила, а спала, не ходила, а летала по воздуху.
Теперь же, вспоминая эту свою обычную тревогу за нее, он подумал: а если она подсознательно сама ловила эти моменты, когда он раскрывался весь, до конца? И всегда оказывалась у него на коленях, уходя в них все глубже, все мягче, и тщательно ловила эти минуты его острой нежности, заботы, связанной с ожогами…
Мысль о том, что он сидит за обеденным столом, не давала доктору покоя, раздражала, отвлекала от прощания.
«Ведь я же не собираюсь ее есть», – подумал он почти вслух.
Кожа после сильных ожогов меняет фактуру, становится чуть беловатой, чуть мертвеет – он легко находил эти белесые, немного другие на ощупь пятнышки на ее руке, находил кончиками пальцев, чувствуя от этого странное возбуждение.
Сосредоточиться не получалось. Доктор отодвинул стул на приличное расстояние и начал смотреть на свою жену издали.
Вышло еще хуже.
Здесь как-то виднее была вся его комната, вся гостиная и дверь на кухню, откуда обычно появлялась кухарка Елена, и доктор вдруг понял, что им всем нужно будет что-то говорить, объяснять, втолковывать. Он хорошо представил себе лицо Елены, когда она увидит то, что он собирался сделать. И ему вдруг стало страшно, и он стал трусливо, жалко думать о том, что своими поступками нарушает целую вереницу законов, установлений, обычаев, убеждений, принятых в этом мире… и стоит ли их нарушать?.. Но и не может он сейчас, вот так сразу, резко, расстаться с Верой и с ее телом, не может, нет, он будет действовать именно по плану, потому что всякое живое существо должно иметь в своих действиях план, а существо без плана, по сути дела, мертвое, бессмысленное существо, лишенное воли к жизни…
«Но был ли план у Веры? – подумал доктор. – И была ли у нее воля к жизни? Не была ли ее постоянная рассеянность прямым доказательством того, что свой план Вера где-то потеряла, а может быть, даже и не нашла?»
Наконец доктор провел ладонями по лицу, выключил весь свет и достал большую высокую свечу.
Мысль о людях, которые совокупляются с мертвыми телами, ясная и зримая, доводила его в этот момент до тошноты, но в то же время он понимал, что в уме, в воображении, именно это он собирается сейчас сделать.
Он понимал, что впоследствии, когда все препятствия будут преодолены, он уже не будет воспринимать ее как знакомое ему тело, потому что… она (то есть не она, а ее тело) останется для него лишь как плод его усилий, как символ, как форма, как сосуд, но не как что-то живое, что еще сохранялось сейчас и с которым он собирался прощаться…
Тени скрыли то неприятное, что хотелось скрыть. Доктор Весленский стоял со свечой над своей женой и думал о том, что она оказывалась в его руках, горячая и задыхающаяся, ровно в те часы, какие были им предусмотрены, это было почти по минутам отмеренное время. И о том, что он хладнокровно следил все эти годы, которые они прожили вместе, за ней – как все привычней становились ее движения, как все сильней и смелей становились ее руки, как жарче и чаще дышала она в такт ему.
…Но гораздо более важными в их любви были не эти минуты, а другие – когда он видел ее как бы со стороны (на самом деле даже не видя), будучи совсем далеко от нее (например, в своей больнице), представляя, как она идет сейчас с корзинкой по рынку, или входит в библиотеку, или идет на концерт, или просто стоит на улице. И именно в этот момент, когда он просто вспоминал ее, его посещало то чувство, которого он так ждал сейчас…
Он часто размышлял о том, что весь его мир – это и есть она, ее высокие сапожки, ее слишком тонкая нога, и длинная ступня, и искривленные пальцы на ногах, ее худая шея, ее уши, ее детские ожоги. Что ради этого знания о ней, о том, что она есть, – существует и целый мир, существует он сам и вся его жизнь, которую он прожил ради этой встречи…
Проститься с Верой по-настоящему Весленскому в тот вечер так и не удалось. Он думал о своей предстоящей работе. И об их предстоящей новой жизни.
Доктор в ту первую ночь ненадолго заснул, а утром проснулся с ясной мыслью: один он не справится.
Прикрыв Веру покрывалом (и предварительно внимательно осмотрев ее), он без завтрака направился в больницу, где тут же нашел своего заместителя Ивана Бурлаку.
Заместитель главного врача Бурлака периодически запивал и не приходил в больницу по нескольку дней, однако, учитывая трудные времена в государстве, Весленский эту особенность неохотно ему прощал, и Бурлака был благодарен и предан ему насколько мог, причем, будучи партийным, не вмешивался в дела беспартийного доктора, нисколько не намекал ему на свое определенного рода могущество, а пытался точно и в срок выполнить все его указания, тихо и без шума проводил собрания небольшой партячейки и грубо обрывал на ней всякого, кто пытался критиковать администрацию больницы с позиций классовой борьбы.
Человек он был огромного роста и могучего телосложения, при этом добрый и спокойный, легко брал на себя некоторые специфические заботы по хозяйственно-административной части: следил, например, за тем, чтобы партийные товарищи, занимающие какие-либо посты в городе Киеве, лежали в больнице поудобнее, чтобы питание у них было получше и чтобы к ним почаще заходили медсестры. Так же легко давались ему переговоры с различными «товарищами», которые появлялись в больнице с проверкой и сразу попадали в кабинет к нему, поскольку все в больнице хорошо знали, к кому нужно их направлять.
Иногда, чтобы особо рьяные гости не пытались проникать в глубь больницы дальше положенной им территории, приходилось доставать банку медицинского спирта, причем в нужный момент, не раньше и не позже, и тогда товарищеский разговор неоправданно затягивался, о чем Весленский непременно сообщал Бурлаке с брезгливой полуулыбкой.
Услышав в то утро, о чем идет речь, Бурлака надолго отвернулся к окну.
– Знаете что, – наконец произнес он. – Я хочу с вами выпить. Мы с вами никогда не выпивали еще.
Борис Дорианович Минаев
Мягкая ткань #1Самое время!
Роман «Батист» Бориса Минаева – образ «мягкой ткани», из волокон которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная история – это и любовь, и предательство, и вечные иллюзии, и жажда жизни, и неотвратимость смерти. Герои романа – обычные люди дореволюционной, николаевской России, которые попадают в западню исторической катастрофы, но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа на вечность.
Борис Минаев
Мягкая ткань. Книга 1. Батист
© Борис Минаев, 2015
© «Время», 2015
* * *
Посвящается Дориану Михайловичу Минаеву
Глава первая
Доктор Весленский (1925)
7 июня у киевского доктора Весленского умерла жена.
Болезнь протекала стремительно. Наконец наступило утро, когда доктор, зайдя в ее комнату (сам он спал в соседней, открыв широко дверь и чутко прислушиваясь к каждому звуку), обнаружил жену уже холодной и тихой.
Весленский обмыл тело влажной губкой, переодел Веру в чистое белье и ушел. Днем он принимал больных, потом зашел в библиотеку и лишь вечером отправился обратно домой. Там перенес жену на обеденный стол в гостиную, под яркую люстру, и начал раздевать, вглядываясь во все то, что так хорошо знал. Вера была моложе его на пятнадцать лет. Нельзя сказать, что она была красавицей. Нет. Она не была красавицей: довольно рослая молодая девушка с длинными руками и ногами, маленькой грудью, смешным милым лицом.
Доктор, разумеется, знал, что задача, поставленная им самому себе, необыкновенно трудна. Читая и перечитывая труды по бальзамированию[1 - Бальзамирование – способы предохранения трупов от разложения и гниения; для этого мягкие части трупа обрабатывают веществами, предотвращающими эти процессы. Подобного рода бальзамирование было известно уже ассириянам, мидянам и персам, но наибольшего совершенства в искусстве Б. достигли древние египтяне. Египетский метод Б. был описан Диодором, но его описание во многих частях страдает неясностью. Можно полагать, что египтяне обладали многими методами Б. Самый совершенный состоял в опорожнении полости черепа с замещением мозга ароматическими веществами, в удалении всех внутренностей, пропитывании их ароматическими веществами и наполнении брюшной полости пахучими смолами или асфальтом. Затем производилось вымачивание всего трупа в растворах натриевых солей и наконец заворачивание его в непроницаемые для воздуха ароматизированные ткани. При египетском способе бальзамирования трупы не предохранялись от разложения – это доказывается простым осмотром мумий. Все мягкие части оказываются совершенно изменившимися в своем строении, и даже наружные формы их еле сохранены. Получается, что египтяне умели лишь превращать гниение в продолжительное изменение и распад тканей, что достигалось частью при помощи применения антисептических веществ, частью путем устранения доступа воздуха, частью условиями, способствовавшими высыханию трупа. В новейшее время Б. применяется крайне редко. Самый простой способ, известный с древних времен, – это высушивание трупов в сухих гробницах и склепах, где мумификация происходит сама собой. К числу искусственных способов относится обработка трупов препаратами, поглощающими влагу и свертывающими белковые вещества, например креозотом, древесным уксусом, некоторыми солями, особенно сулемой, мышьяком и другими минеральными средствами. Вводить их лучше всего путем впрыскивания растворов в кровеносные сосуды.], взятые в городской научной библиотеке, в частности статьи г-на Выводцева, по методу которого Весленский собирался действовать, доктор параллельно в уме производил подсчеты и даже рисовал в воображении некоторые пространственные схемы. В частности, он хотел понять, а сможет ли один воспользоваться инъектором Выводцева, чтобы ввести в тело необходимую жидкость, сможет ли сам справиться с операцией, сделать надрезы, наложить зажимы, ведь инструменты необходимо кому-то держать наготове, а члены усопшей – сохранять в неподвижности.
Но прежде чем приступить ко второй части своей работы, перейти к самому процессу подготовки тела и всего прочего необходимого, доктор хотел проститься с Верой, как он это называл про себя.
То есть в полном одиночестве, наедине с нею дать волю своим чувствам, причем сам он (называя это в уме именно так) вовсе не предполагал и даже не пытался понять, что значит – проститься, что это будет и как это будет, он просто твердо знал, что ему в этот момент ничто не должно мешать.
Плотно зашторив окна и заперев двери, доктор снял с тела и аккуратно сложил – на стуле, рядом с обеденным столом, – легкое покрывало.
Нельзя сказать, чтобы ему в этот момент ничего не мешало.
Ему мешали мысли, а если говорить точнее, это были его собственные страхи, материализовавшиеся в слова, в какие-то всполохи, как бывает летней ночью, во мраке, когда где-то вдалеке идет гроза и в мертвой духоте, теплоте лета, в его мягкой темноте вдруг образуется некая зона огня, как напоминание о другой жизни…
Так вот, эти мысли были совершенно неожиданными, и каждый раз, когда доктор пытался сосредоточиться на своем и уходил в это «свое» и глаза его переставали быть зрячими, он вдруг резко морщился и мелко тряс головой, пытаясь избавиться от навязчивых странных идей.
Идея первая была такой: что он сделал ошибку и Веру нельзя оставлять так надолго летом в душном запертом помещении. Что все кончится очень плохо, появится запах, Вера начнет меняться, в частности – цвет тела и его фактура. Хотелось выключить свет, открыть настежь окна, побежать к мяснику или еще куда-нибудь за большими, огромными кусками льда. Приходилось вновь и вновь убеждать себя, что ничего этого делать нельзя, что он не должен бояться, ибо знает, что надо, помнит все сроки, отмеренные часы, когда должен заняться вот этим и потом вот тем, что нельзя искусственно менять температуру тела сейчас, что ничего не должно произойти в ближайшие сутки, нужно просто делать то, что он себе наметил, по плану и дальше поступать точно так же – все по плану, все по часам, по минутам, все представлять себе заранее: куда идти, что говорить, что делать, какие могут быть препятствия и варианты, как эти препятствия обойти…
Сейчас по плану нужно было прощаться. Он обязан был сейчас сосредоточиться на прощании и прогнать эти мысли о том, что воздух в квартире не тот, что он задыхается вместе с ней, с Верой, от этого летнего киевского воздуха, наполненного шелестом листвы и гулом далеких голосов, что произойдет нечто неправильное, не по плану, он должен прощаться, и все, и больше ничего…
Вера лежала на обеденном столе. Она вечно обжигалась на кухне, когда что-то готовила: варила, пекла или жарила. Ее руки – запястья, ладони, локти – вечно были в следах от этих кухонных ожогов. Она любила для него готовить, хотя это могла бы делать кухарка. Но Вера любила сама печь для него сладкие пироги с вишней и яблоками, тушить мясо с черносливом, запекать утку в духовке. И почти каждый раз обжигалась.
Доктор сидел на стуле, придвинувшись к столу, как будто собирался взять крахмальную салфетку, заложить ее за ворот рубашки и налить первую рюмку водки. Весленский низко наклонился, прислонился лбом к локтю Веры и посмотрел на ее запястье.
Каждый раз эти ожоги, такие досадные для нее, вызывали у доктора острый приступ любви, и он, понимая это несоответствие, только молча дул на них, сухо объясняя Вере, сколько будет еще побаливать, и дул, дул, дул, отчего начинала кружиться голова и Вера рано или поздно оказывалась у него на коленях.
Он пытался понять, в чем причина этого постоянного травматизма: от неловкости ли ее или от рассеянности? от того, что голова ее постоянно занята чем-то другим, посторонним? – и так и не смог.
Возможно, именно ее рассеянность и стала истинной причиной этой страшной болезни, от которой она в конце концов умерла, ведь человек должен, просто обязан чувствовать опасность, кончиками пальцев, всей кожей чувствовать, что его окружает, пропитан ли воздух вокруг жизнью или смертью… А Вера всегда как будто не жила, а спала, не ходила, а летала по воздуху.
Теперь же, вспоминая эту свою обычную тревогу за нее, он подумал: а если она подсознательно сама ловила эти моменты, когда он раскрывался весь, до конца? И всегда оказывалась у него на коленях, уходя в них все глубже, все мягче, и тщательно ловила эти минуты его острой нежности, заботы, связанной с ожогами…
Мысль о том, что он сидит за обеденным столом, не давала доктору покоя, раздражала, отвлекала от прощания.
«Ведь я же не собираюсь ее есть», – подумал он почти вслух.
Кожа после сильных ожогов меняет фактуру, становится чуть беловатой, чуть мертвеет – он легко находил эти белесые, немного другие на ощупь пятнышки на ее руке, находил кончиками пальцев, чувствуя от этого странное возбуждение.
Сосредоточиться не получалось. Доктор отодвинул стул на приличное расстояние и начал смотреть на свою жену издали.
Вышло еще хуже.
Здесь как-то виднее была вся его комната, вся гостиная и дверь на кухню, откуда обычно появлялась кухарка Елена, и доктор вдруг понял, что им всем нужно будет что-то говорить, объяснять, втолковывать. Он хорошо представил себе лицо Елены, когда она увидит то, что он собирался сделать. И ему вдруг стало страшно, и он стал трусливо, жалко думать о том, что своими поступками нарушает целую вереницу законов, установлений, обычаев, убеждений, принятых в этом мире… и стоит ли их нарушать?.. Но и не может он сейчас, вот так сразу, резко, расстаться с Верой и с ее телом, не может, нет, он будет действовать именно по плану, потому что всякое живое существо должно иметь в своих действиях план, а существо без плана, по сути дела, мертвое, бессмысленное существо, лишенное воли к жизни…
«Но был ли план у Веры? – подумал доктор. – И была ли у нее воля к жизни? Не была ли ее постоянная рассеянность прямым доказательством того, что свой план Вера где-то потеряла, а может быть, даже и не нашла?»
Наконец доктор провел ладонями по лицу, выключил весь свет и достал большую высокую свечу.
Мысль о людях, которые совокупляются с мертвыми телами, ясная и зримая, доводила его в этот момент до тошноты, но в то же время он понимал, что в уме, в воображении, именно это он собирается сейчас сделать.
Он понимал, что впоследствии, когда все препятствия будут преодолены, он уже не будет воспринимать ее как знакомое ему тело, потому что… она (то есть не она, а ее тело) останется для него лишь как плод его усилий, как символ, как форма, как сосуд, но не как что-то живое, что еще сохранялось сейчас и с которым он собирался прощаться…
Тени скрыли то неприятное, что хотелось скрыть. Доктор Весленский стоял со свечой над своей женой и думал о том, что она оказывалась в его руках, горячая и задыхающаяся, ровно в те часы, какие были им предусмотрены, это было почти по минутам отмеренное время. И о том, что он хладнокровно следил все эти годы, которые они прожили вместе, за ней – как все привычней становились ее движения, как все сильней и смелей становились ее руки, как жарче и чаще дышала она в такт ему.
…Но гораздо более важными в их любви были не эти минуты, а другие – когда он видел ее как бы со стороны (на самом деле даже не видя), будучи совсем далеко от нее (например, в своей больнице), представляя, как она идет сейчас с корзинкой по рынку, или входит в библиотеку, или идет на концерт, или просто стоит на улице. И именно в этот момент, когда он просто вспоминал ее, его посещало то чувство, которого он так ждал сейчас…
Он часто размышлял о том, что весь его мир – это и есть она, ее высокие сапожки, ее слишком тонкая нога, и длинная ступня, и искривленные пальцы на ногах, ее худая шея, ее уши, ее детские ожоги. Что ради этого знания о ней, о том, что она есть, – существует и целый мир, существует он сам и вся его жизнь, которую он прожил ради этой встречи…
Проститься с Верой по-настоящему Весленскому в тот вечер так и не удалось. Он думал о своей предстоящей работе. И об их предстоящей новой жизни.
Доктор в ту первую ночь ненадолго заснул, а утром проснулся с ясной мыслью: один он не справится.
Прикрыв Веру покрывалом (и предварительно внимательно осмотрев ее), он без завтрака направился в больницу, где тут же нашел своего заместителя Ивана Бурлаку.
Заместитель главного врача Бурлака периодически запивал и не приходил в больницу по нескольку дней, однако, учитывая трудные времена в государстве, Весленский эту особенность неохотно ему прощал, и Бурлака был благодарен и предан ему насколько мог, причем, будучи партийным, не вмешивался в дела беспартийного доктора, нисколько не намекал ему на свое определенного рода могущество, а пытался точно и в срок выполнить все его указания, тихо и без шума проводил собрания небольшой партячейки и грубо обрывал на ней всякого, кто пытался критиковать администрацию больницы с позиций классовой борьбы.
Человек он был огромного роста и могучего телосложения, при этом добрый и спокойный, легко брал на себя некоторые специфические заботы по хозяйственно-административной части: следил, например, за тем, чтобы партийные товарищи, занимающие какие-либо посты в городе Киеве, лежали в больнице поудобнее, чтобы питание у них было получше и чтобы к ним почаще заходили медсестры. Так же легко давались ему переговоры с различными «товарищами», которые появлялись в больнице с проверкой и сразу попадали в кабинет к нему, поскольку все в больнице хорошо знали, к кому нужно их направлять.
Иногда, чтобы особо рьяные гости не пытались проникать в глубь больницы дальше положенной им территории, приходилось доставать банку медицинского спирта, причем в нужный момент, не раньше и не позже, и тогда товарищеский разговор неоправданно затягивался, о чем Весленский непременно сообщал Бурлаке с брезгливой полуулыбкой.
Услышав в то утро, о чем идет речь, Бурлака надолго отвернулся к окну.
– Знаете что, – наконец произнес он. – Я хочу с вами выпить. Мы с вами никогда не выпивали еще.