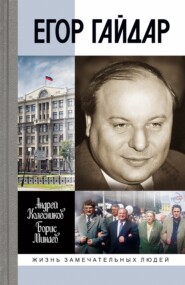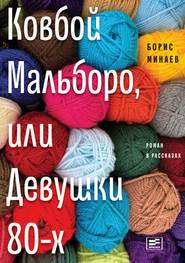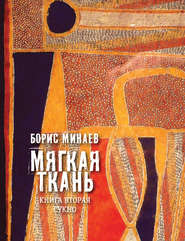По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Площадь Борьбы
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давайте поужинаем, обсудим этот вопрос, – тихо сказал он, с колотящимся сердцем. – Я вас прошу.
Она засмеялась.
– О господи. И не стыдно?
– Нет, – просто сказал Ароныч. – Где встретимся?
Пригласил ее в «Берлин», там у него было знакомый метрдотель, вокруг сидели иностранцы, в основном финны.
Один финн нажрался, пригласил Елену Ивановну танцевать, она резко отказалась, финн стоял, весь красный как рак, обиженно что-то бубнил по-английски.
Когда они выходили, на Пушечную, он сказал ей, что есть билеты на Московский кинофестиваль.
– Смешной ты.
Однажды они всей компанией – он, Яша Либерман, Шамиль Мустафин, и Колька Лазарев, это было в сорок четвертом году, – решили зайти к Симе Каневскому, было холодно, хотя уже стоял апрель, но весна только-только начиналась, снег лежал тонкой грязной кромкой, прятался в тени, вся Марьина Роща состояла из развалюх, бараков, дровяных сараев, хибар, будок, клеток, двухэтажных шанхаев с мутными окнами, откуда густо пахло супом, снег прятался в этих углах, колючий, крапчатый снег, им стало холодно, и они зашли в знакомый дом по 2-му Вышеславцеву переулку. Позвонили в звонок, идея была погреться и заодно проведать товарища, Симу Каневского, идти все равно больше было некуда.
Они позвонили в звонок, долго никто не открывал, наконец им отворила мама Надя, она стояла, кутаясь в шаль, со странным лицом, молча кивнула и впустила, идите, идите к нему, подтолкнула она в спину, хотя они уже поняли, что что-то не так, толпились в прихожей, боясь войти, но она подтолкнула, и Колька Лазарев первым шагнул в маленькую комнату, где Сима сидел на кровати, отвернувшись к окну, с перевязанной зачем-то головой. Они испугались, решили, что его побили или хотели убить, но он повернулся, губы были перекошены болью, у него флюс, сказала мама Надя, острая боль, а где я ему сейчас врача найду, поговорите с ним, надо же куда-то ехать, идти, а он не хочет. Ребята, вдруг сказал Сима, убейте меня, а? Я больше не могу, я не хочу жить. Сима не спал всю ночь, и прошлую ночь он не спал тоже, раздулся флюс, он был розовым, гнойным, заполнял весь рот, мешал дышать, не помогала горячая сода, не помогала водка, компрессы, не помогали травы, Сима встал с постели и стал двигаться, они испуганно смотрели на него, пойдемте со мной, вдруг закричал он, и они испуганно двинулись за ним, дрожащими руками он надел ботинки, намотал шарф, оттолкнул маму, выскочил во двор, там он нашел дыру, в которую быстро пролез, у него была какая-то мысль, он кого-то искал, наконец, увидев Марика, инвалида войны из семнадцатого дома, он ринулся к нему и опять крикнул: Марик, убей меня! – все в том районе знали, что у Марика, однорукого инвалида, есть именной пистолет, Марик отшатнулся, потом расхохотался…
– Постой здесь! – крикнул он, узнав в чем дело.
Дул апрельский ветер, Сима держался за лицо, вернулся Марик с финкой и бутылью спирта, он протер финку ветошью и вдруг схватил Симу за горло, тот закричал и ничего не успел сделать – финка вошла в рот и надрезала страшный нарыв, ну все, все, сказал инвалид, теперь будешь жить, все, Сима, иди, иди…
С тех пор у Симы на шее, под подбородком, оставался маленький розовый след, как от удара ножом. Марик проколол ему шею тогда, но удивительно, что не было никакой крови – один гной.
Петя спросил однажды отца, Якова Израилевича Либермана, правда ли, что на фронте у людей не болели зубы, нет, конечно неправда, откуда такая глупость вообще… но болели меньше, вдруг улыбнулся он. Некогда было об этом думать – у кого болели сильней, те просто просили взаймы спирт, дергали сами, резали сами, врачи же были на ранениях, челюстно-лицевых операциях, тогда не до золотых коронок, конечно, было. Впрочем, подумав, сказал он, были и штабные врачи, они, конечно, ставили коронки, делали мосты для генералов, полковников, в общем, для тех, кто имел такую возможность.
Потом он задумался и рассказал историю. В пятидесятые годы под Смоленском, после института, меня вызвали в штаб, а там, в Смоленске, может быть, ты не в курсе, был лагерь при еврейском гетто. Короче, меня вызвали в штаб и показали несколько чемоданов, я не помню, сколько именно, может пять, а может три, и в них лежали зубы – коронки, мосты, золотые зубы, их выдирали без обезболивания, конечно, просто щипцами, на многих были следы крови. Они думали, в штабе, может, это ценные для медицины вещи, хотели посоветоваться. Я сказал – нет.
И потом долго не мог к зубному ходить, ни к Аронычу, ни к кому, но потом это прошло у меня, так о чем ты хочешь спросить, Петя, дорогой?..
Про фронт, напомнил Петя. Да, про фронт, точно. Про фронт. Отец рассеянно улыбался.
Когда Петя уже подрос, окончил институт, выбрал стоматологию, не пошел по стопам отца, не стал заниматься мужскими болезнями, а выбрал стоматологию, отец попросил Ароныча первый год за ним присмотреть. Там, на Большой Дорогомиловской. И Ароныч действительно присматривал, давал советы, приободрял, если что, оценивал риски в сложных случаях, познакомил со «своими» – рентгенологом, зубным техником, лабораторией. Потом у Пети появились тоже все «свои», рентгенолог, техник, без знакомства было никак нельзя, тут у нас вообще, немного ворчливо говорил Ароныч, особые отношения. Ты пойми, это закон, так устроена стоматология, без рекомендации нельзя, есть рекомендация – прекрасно, нет рекомендации – извините. К тебе человек пришел по рекомендации, значит, ты чувствуешь перед ним ответственность, и наоборот, ты ему рекомендуешь специалиста, и он к нему идет со всем уважением. Петя постепенно вникал в суть этой несложной теории.
Ароныч велел ему запоминать анекдоты, говорить комплименты дамам, ну не сложные, самые простые, чтобы снять напряжение, – это очень важно.
Однажды Петя спросил отца, в чем причина, почему Михаил Ароныч Соловьев так ревностно исполняет отцовскую просьбу, помогает, учит. Он такой ответственный человек? Да нет, улыбнулся отец, и опять сверкнула его улыбка, не в этом дело, он мне должник, понимаешь? Петя молчал, пытаясь понять, отец с Аронычем не общался и не пересекался, наверное, уже лет двадцать, а то и больше, ну как тебе сказать, сказал отец, ничего тут в общем, необычного нет, просто бывает так, что вдруг в жизни определенного человека ты играешь определенную роль.
– Определенную? – спросил Петя.
Да, да, определенную, раздраженно ответил отец, что тут непонятного?
Во время этих ночных бдений, когда бессонница брала свое и не помогали корвалол, валокордин, фенозепам, димедрол, иван-чай, водка – ничего не помогало, и он бродил из одной комнаты в другую, на Ароныча нападало нелепое раздражение, он спрашивал себя, почему так получилось, что он тут ночует один, в этой крошечной двушке, где в одной комнате его зубной кабинет, а в другой спальня, и даже ноги поставить некуда, почему он ночует наедине с черной светящейся в темноте мраморной плитой, почему его жена давно живет в другой квартире, почему Алла каждый вечер тоже уходит к себе домой, почему дети уже в Израиле, а он тут сидит, на Делегатской. И чтобы не злиться на себя понапрасну, он вставал, накидывал куртку и шел по родным местам, несмотря на глухую ночь. Как-то так получилось, что в восемьдесят первом году старик-маклер, со своими карточками, исписанными мелким противным почерком, отселил его в результате родственного обмена сюда, в родные места.
Тут они встречались с ребятами и шли в парк ЦДСА, вдали громадой возвышался театр Советской армии, похожий на огромную уродливую синагогу, в праздничные дни здесь все рябило от фуражек. Тут был и театр армии, и Центральный дом офицеров: шикарный буфет, блестящие концерты, клуб, шахматы и парк с прудиком в середине, гостиница ЦДСА, офицеры со всей страны жили в этой гостинице, порой месяцами, приводили в Центральный дом офицеров дам, на танцы и на концерты, в ресторан и буфет, этот острый мужской запах в светящейся темноте парка, одеколон и табак.
Тут же рядом начиналась Селезневка, на которой ничего еще не было, ни этих огромных новомодных домов из желтого кирпича, самым крупным строением были бани, если не считать пожарной каланчи, по субботам в бани была очередь, тоже из офицеров, с березовыми вениками, с чемоданчиками, мужской отдых за кружкой пива, офицеры были красные, распарившиеся, здоровые мужчины, курили и горланили о своем, стоя под фонарем, и тут же пропадали в темноте, ныряли в темноту, со своими мокрыми полотенцами и стиранными наспех трусами.
Москва была городом темноты, фонарей было мало, ты шел, осторожно ощупывая взглядом пространство, звенел в темноте трамвай, роняя искры, из темноты на тебя выпрыгивали люди, кошки, наглядная агитация, город рано темнел, по небу шарили прожектора, офицерские шинели соседствовали с ватниками и короткими черными пальто.
После того как он в первый раз пригласил Елену Ивановну к себе, на это ушла пара месяцев упорных звонков и долгих подробных свиданий, и она, пережив случившееся, долго лежала на животе и курила, накинув на голую спину легкое покрывало, вдруг случилось странное – Елена Ивановна заговорила. Он сначала не мог понять, что случилось, но она вдруг начала болтать без умолку, не то чтобы что-то важное, какие-то обычные дрязги на работе, в поликлинике ВЦСПС. Что заведующая отделением дура, но муж у нее работает в неврологии, в академическом институте на Щукинской, профессор, и вот она нос задрала, а что задирать, это ж не она профессор, я ей говорю, давайте как-то разумно подходить, ну почему я все время в субботу должна дежурить, это же несправедливо, а ее всю трясет, глаза выпучила и молчит, – он сидел на кровати, в одной рубашке и ласково кивал, поглаживая ее по спине, на которую было накинуто легкое покрывало, а она смотрела в окно и курила, сладко так болтала, какую-то ерунду, он быстро понял, что можно особо не прислушиваться, ей хочется поболтать.
Просто он представлял ее совершенно другим человеком, а каким, не очень понятно, каким он себе ее представлял человеком, до этого момента все ее фразы казались ему короткими и значительными, например, когда он покупал цветы, она кокетливо погружала лицо в букет роз и говорила: балуете нас, Михаил Аронович, мы не заслужили, и у него кру?гом шла голова. Ну или в ресторане, она просто ела, но всегда очень мало, улыбалась, курила и коротко спрашивала – а с кем ты поздоровался, а ты не боишься, что тебя со мной увидят, за этой немногословностью ему чудилось нечто такое, чего раньше не встречалось: умная женщина, не просто красивая, с красивыми ногами и высокой грудью, самостоятельная, резкая, умеющая одеваться, умеющая шутить, но еще и умная, этого он ждал и боялся, как сам будет выглядеть на ее фоне, и вдруг она начала неудержимо, безостановочно болтать, о какой-то ерунде: расслабилась, отпустила себя, ему это и нравилось и не нравилось. Раньше он был ей благодарен за отсутствие дежурных разговоров о кинофильмах, о художниках-импрессионистах, о летающих тарелках и последних публикациях в журнале «Знание – сила». Да, он решил, что ей не нужно выглядеть умной, она и так умна, а тут оказалось, что она боялась его, но потом, когда все уже случилось, решила больше не бояться. Это было мило, но что-то заныло в душе, Ароныч думал об этом непрерывно, Елена Ивановна, со своими разговорами о поликлинике ВЦСПС и о злой заведующей отделения, была подарком в его жизни, да, конечно же, подарком, по-прежнему кружилась голова от шуршания ее колготок, синтетических, гэдээровских, по-прежнему замирало сердце, когда она брала его за руку, по-прежнему она восхитительно одевалась и раздевалась, но исчезло то, что, оказывается, их связывало – она была чем-то похожа на ту женщину, из дома отдыха, в Крыму, под Форосом, которая уехала внезапно, молчаливая женщина, с которой он просто поцеловался после танцев, и она внезапно уехала, и он думал о ней много лет, как оказалось, Елена Ивановна не была на нее похожа. Он уже не знал, куда деваться от этих подробностей, от этих двух- или трехчасовых сеансов полного погружения в ее жизнь, насыщенную всякой чепухой, безобидной, как легкая цветочная пыльца – цены в магазине, телепередачи, вся та чушь, которую ей рассказывали словоохотливые пациенты во время физиотерапевтических сеансов в поликлинике ВЦСПС, а она потом вываливала эту чушь на него. Ей страшно хотелось поговорить, но уже после этого, а он вдруг понял, что ему нечем ответить, все, о чем он думал, было попросту не для нее. Да и ни для кого. Вообще.
Она быстро все поняла. Однажды задумчиво сказала: странное дело, вот если б у тебя кабинета этого не было, то вообще и не было бы ничего? И так со всеми вами, частниками – то скульпторы, то дантисты, потом вдруг осеклась и посмотрела на него – не слишком ли много сказала?
– Скульпторы? – осторожно поинтересовался он. – Они, говорят, много получают?
Но она только пожала плечами.
Расставаясь, Елена Ивановна вдруг спросила: ну что, не жалеешь, что тогда денег с меня не взял?
– Да иди ты к черту! – рассердился он.
И она рассмеялась нагло. И опять стала прежней.
Дом, где жил Сима Каневский, стоял через забор от синагоги во 2-м Вышеславцевом переулке. Синагога была чуть выше его дома, темно-коричневое здание с большой крышей, с деревянными колоннами по фасаду, широким крыльцом и высокой дверью.
Все это было видно, если подставить деревянный ящик и подтянуться на заборе, с улицы вход в синагогу закрывали яблони, которые росли и по ту, и по эту сторону забора, огромные яблони с кривыми стволами. Осенью в траве у дома Каневских густым слоем лежали мелкие красные яблоки, которые собирали лениво и не очень охотно, чтобы сварить пару ведер компота или пару тазов варенья, остальное некуда было девать. Осенью их, детей, эти оставшиеся в траве яблоки заставляли собирать в мешок, чтобы не сгнили и не распространяли тяжелый гнилой запах, чтобы не было этой едкой коричневой каши под ногами, – и потом с их же помощью отправляли мешок на ту территорию, мешок скрывался за высокой дверью синагоги, и больше его никто не видел.
Теоретически им всем было известно – Кольке Лазареву, Мишке Соловьеву и другим – что яблоки «отдают нищим», но кто такие эти нищие, и где они живут, и как они выглядят, ни Либерман, ни Соловьев, ни их родители не знали, а вот мама Симы Каневского знала, она иногда с наступлением сумерек выходила на улицу, и в час, когда тихий раввин шел из синагоги к трамваю, чтобы ехать домой, она его окликала и разговаривала с ним на другом языке.
Родители Либермана и Соловьева тоже разговаривали дома на этом другом языке, но делали это крайне редко, и то только для того, чтобы дети ничего не поняли, но они понимали, верней догадывались, и в свою очередь, родители прибегали к другому языку все реже. А вот мама Симы Каневского говорила на нем свободно и спокойно, стоя с раввином у забора, как будто случайно остановив его на пути к трамвайной остановке. Каждый раз после этих разговоров в доме Каневских начинались какие-то странные вещи: приходили опрятно одетые, но очень бледные и какие-то невесомые мужчины и женщины, у них были очень старые, давно нечищеные ботинки, мать не ставила им белых больших тарелок, не усаживала за огромный стол с белой скатертью, чтобы они не стеснялись, просто наливала на кухне суп в миску, иногда отдавала старые вещи – детские и взрослые: прохудившиеся штаны, вязаные кофты, которые уже нельзя было носить, какие-то, с точки зрения Симы, совсем ветхие тряпки, но они забирали все с благодарностью и уходили, часто мама Каневская относила в синагогу какие-то другие дары – например, полную кастрюлю драников, приготовленных из картофельных очисток, или кисель, сделанный из черного хлеба…
Сима Каневский не понимал, почему все это происходит, и стыдился этой стороны маминой жизни.
Никому даже в голову не могло прийти – ни Лазареву и его русским родителям, ни татарину Мустафину, ни соседям, – что папа Каневский, или сестры Каневские, или вообще кто-то из нормальных советских людей может войти в эту калитку, пройти узкой дорожкой красного колотого кирпича и взойти на это широкое крыльцо синагоги. Туда ходили только ветхие старики в черных шапочках-кипах или в шляпах, их было совсем мало, и только через маму Каневскую какая-то связь с этим миром все же была, и эта связь смущала Симу, он не понимал, откуда берутся эти нищие люди, с их запахом, с их физически ощутимым голодом, кругом тоже все недоедали, всем не хватало всего – хлеба, овощей, круп, о мясе почти забыли, – но люди работали, все приносили с работы какие-то пайки, все стояли в очередях с карточками в руках, все как-то справлялись. Непонятно было, как в советском государстве, да еще в Москве, могли появиться люди, которые с этим не справлялись, он спросил отца, Даню Каневского, тот болезненно поморщился и сказал, что ничего в этом не понимает, мама Каневская в ответ на его вопросы очень коротко ответила, что эти люди, которым она носит еду или кормит их на кухне, они оттуда, где были немцы, из Белоруссии, Украины, беженцы, что пока что дома им негде жить и нечего есть, это еще больше напугало Симу, он просто не понимал, как при советской власти человеку может быть негде жить и нечего есть, наверное, это были какие-то особые люди, которые от горя немного сошли с ума. Он поделился этим открытием с Мишкой Соловьевым, и тот легкомысленно сказал, что не нужно обращать внимания на странности старшего поколения.
Ароныч вспомнил, как однажды они с Симой Каневским внезапно зашли в синагогу. В этот день, в сентябре, они стояли вдвоем на деревянном ящике и смотрели через забор, и вдруг Сима сказал, что на самом деле в синагоге никого нет, он точно это знает, а дверь открыта, по какой-то странной причине все куда-то делись, включая раввина, и тогда, повинуясь общему чувству, они выбежали на улицу и толкнули плечом соседнюю калитку, пробежали по осколкам красно-бурого кирпича и толкнули плечом уже следующую, высокую дверь. Здесь было темно, блестел огромный семисвечник, высокий потолок смыкался над их головами, и от его балок спускались вниз огромные белые бумажные свитки с русскими и еврейскими буквами, на которых он разглядел знакомое имя – «Сталин», это была молитва за Сталина, тут хлопнула дверь, они испуганно пригнулись, и раввин прошел куда-то через одну дверь в другую и исчез во внутреннем дворе, они выскочили назад, задыхаясь, проскочили обратное расстояние за две секунды и, увидев маму Каневскую, без обиняков спросили, что там могло быть написано. И она просто сказала, что надписи эти висят давно, уже больше года, и на них написана благодарность Сталину и всему советскому народу за победу над фашизмом.
Эти слова Мишка Соловьев, который не стал еще тогда Аронычем, вспомнил в день смерти Сталина. Он зашел в дом к Каневским и увидел рыдающую маму Надю, которая увидев их и смутившись, вдруг плакать перестала и твердо сказала, что при Сталине не было погромов, поэтому она плачет, а что же будет теперь, она не знает, и никто не знает, поэтому у нее навернулась «непрошеная слеза». Но это была, конечно, не непрошеная слеза, а целый поток непрошеных слез, и Сима побледнел, не зная, как реагировать, и Мишка понимал его, потому что проблема была не в том, что мама Каневская плакала над Сталиным, весь мир плакал над Сталиным, все прогрессивное человечество плакало над Сталиным, проблема была в том, что у мамы Каневской была какая-то своя, слишком особая причина плакать над Сталиным, в то время как все прогрессивное человечество плакало над Сталиным, как над вождем мирового пролетариата и руководителем мирового коммунистического движения и просто как над самым мудрым и человечным человеком, – а мама Каневская плакала о чем-то непонятном, о том, видите ли, что при Сталине не было еврейских погромов, это было не просто странно, это было даже как-то нехорошо. Ведь квартира, в которой жили Каневские, не была отдельной, хотя и располагалась в отдельном доме, там жили разные люди, и многие, услышав такую вот речь, могли бы тоже прийти в недоумение и даже оскорбиться, но, слава богу, все в этот день горевали, плакали, поминали товарища Сталина, и никому в голову не пришло обращать внимание на эти странные слова мамы Нади о еврейских погромах, какие погромы, о чем это вообще, о фашистах, что ли, но Сталин-то тут при чем…
Яков Израйлевич Либерман, отец Пети, в тот день быстро расправился с курицей, а в ответ на неприязненный взгляд сына как-то кисло улыбнулся и потом нахмурился.
А в воскресенье мать уехала на дачу, и он сказал, что научит Петю, как готовить голубей. Петя опять слушал его, как загипнотизированный. Он никак не мог поверить в то, что это происходит именно с ним, или, может быть, он не мог не подчиниться отцовскому гипнозу, это было страшно и весело. Отец поднялся на чердак, у него был ключ от их необъятного чердака, они жили в обычной девятиэтажке, на улице Павла Корчагина, на чердак он иногда, по договоренности с дворником, оттаскивал ненужные вещи. Это было вполне объяснимо, что у него оказался этот волшебный ключ от чердака, которого не было и не могло быть у других, отец знал вообще всех людей в мире, и все люди в мире знали отца, это было вполне понятно, непонятно было то, почему на этом чердаке живет так много птиц, там было какое-то море голубей, сотни, они разом захлопали крыльями, и поднялась пыль вместе с перьями, подсвеченная солнцем из узких окошек, живая клекочущая масса, отец подошел к ним на мягких пружинистых ногах и просто кинул шляпу.
Оказывается, он взял с собой шляпу, Петя этого даже не заметил, шляпу и силок – петлю на веревочке, силком он мгновенно задушил штук семь голубей, Петя даже не успел охнуть, как это произошло, потом он важно отнес их в шляпе домой и пошел на кухню – ощипывать и жарить, прокол был в одном – перья они спустили в туалет, и когда голуби с ужасом и восторгом были уже ими съедены, вдруг выяснилось, что главное условие – чтобы мать ничего не узнала – не может быть соблюдено. Пух никак не хотел отправляться вниз по канализационной трубе, отец бледнел, краснел, пыхтел, но сделать ничего не мог, этот чертов пух был легче воды, он сразу бросался в глаза, он портил весь праздник, сам запах они выветрили быстро (была осень, холодный воздух ворвался в кухню мгновенно, как вор), следы уничтожили, а вот пух болтался в унитазе предательской уликой. Отец перестал улыбаться и напряженно думал, что делать, как избежать разоблачения, и наконец додумался, спустив в унитаз полведра желтого грязного песка, который тоже почему-то (большой кучей) лежал там на чердаке.
Петя вспоминал всю эту историю со смехом, а потом, через несколько лет, уже после института, когда отец лежал в больнице и он часто приходил к нему, во вторую неврологию в Боткинскую, куда отец, конечно же, тоже попал по блату, ведь он знал всех людей в мире, и все люди в мире знали его, тот сам вспомнил и сам стал говорить про голубей. Он стал говорить, что тогда, в Марьиной Роще, в сорок третьем году, после эвакуации, было очень страшно потерять продуктовые карточки, а их, пацанов, часто посылали отоваривать карточки, взрослым было некогда стоять в очередях по три-четыре часа, они работали и отправляли их, пацанов, однажды он потерял карточки, была сырая мерзлая весна, март, противное солнце резало глаза, и он шел по улице, по 2-му Вышеславцеву переулку, и рыдал, рыдал, он никак не мог остановиться, шел и рыдал, ему страшно было идти домой. И вот тогда Яшу Либермана увидел Ароныч, то есть Мишка Соловьев, и повел к Симе Каневскому, и мама Симы Каневского дала ему картошки и написала записку его маме, он даже не знал, что в ней написано, просто бережно нес, боясь и записку тоже потерять вместе с картошкой, голос у отца как-то дрогнул, и вдруг Петя понял, что же значили для него эти голуби, да, да, сказал отец, как будто услышав его мысли, мы тогда ели все что угодно, голубей, ворон, мы бы и кошку могли съесть, только не собаку, но собак не было. Собак тогда почти не было…
Зайтаг
Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь, перестала спать в 1930 году, в июне.
Это не было связано с ее личной жизнью, с жизнью страны, с каким-то особым событием, или неприятным происшествием, или вообще с чем-то психиатрическим.
Как потом выяснилось, была у нее такая болезнь, воспаление нервных окончаний где-то в каком-то отделе ее головы, не ведущее ни к каким другим последствиям, кроме одного – у нее пропал сон.
Она засмеялась.
– О господи. И не стыдно?
– Нет, – просто сказал Ароныч. – Где встретимся?
Пригласил ее в «Берлин», там у него было знакомый метрдотель, вокруг сидели иностранцы, в основном финны.
Один финн нажрался, пригласил Елену Ивановну танцевать, она резко отказалась, финн стоял, весь красный как рак, обиженно что-то бубнил по-английски.
Когда они выходили, на Пушечную, он сказал ей, что есть билеты на Московский кинофестиваль.
– Смешной ты.
Однажды они всей компанией – он, Яша Либерман, Шамиль Мустафин, и Колька Лазарев, это было в сорок четвертом году, – решили зайти к Симе Каневскому, было холодно, хотя уже стоял апрель, но весна только-только начиналась, снег лежал тонкой грязной кромкой, прятался в тени, вся Марьина Роща состояла из развалюх, бараков, дровяных сараев, хибар, будок, клеток, двухэтажных шанхаев с мутными окнами, откуда густо пахло супом, снег прятался в этих углах, колючий, крапчатый снег, им стало холодно, и они зашли в знакомый дом по 2-му Вышеславцеву переулку. Позвонили в звонок, идея была погреться и заодно проведать товарища, Симу Каневского, идти все равно больше было некуда.
Они позвонили в звонок, долго никто не открывал, наконец им отворила мама Надя, она стояла, кутаясь в шаль, со странным лицом, молча кивнула и впустила, идите, идите к нему, подтолкнула она в спину, хотя они уже поняли, что что-то не так, толпились в прихожей, боясь войти, но она подтолкнула, и Колька Лазарев первым шагнул в маленькую комнату, где Сима сидел на кровати, отвернувшись к окну, с перевязанной зачем-то головой. Они испугались, решили, что его побили или хотели убить, но он повернулся, губы были перекошены болью, у него флюс, сказала мама Надя, острая боль, а где я ему сейчас врача найду, поговорите с ним, надо же куда-то ехать, идти, а он не хочет. Ребята, вдруг сказал Сима, убейте меня, а? Я больше не могу, я не хочу жить. Сима не спал всю ночь, и прошлую ночь он не спал тоже, раздулся флюс, он был розовым, гнойным, заполнял весь рот, мешал дышать, не помогала горячая сода, не помогала водка, компрессы, не помогали травы, Сима встал с постели и стал двигаться, они испуганно смотрели на него, пойдемте со мной, вдруг закричал он, и они испуганно двинулись за ним, дрожащими руками он надел ботинки, намотал шарф, оттолкнул маму, выскочил во двор, там он нашел дыру, в которую быстро пролез, у него была какая-то мысль, он кого-то искал, наконец, увидев Марика, инвалида войны из семнадцатого дома, он ринулся к нему и опять крикнул: Марик, убей меня! – все в том районе знали, что у Марика, однорукого инвалида, есть именной пистолет, Марик отшатнулся, потом расхохотался…
– Постой здесь! – крикнул он, узнав в чем дело.
Дул апрельский ветер, Сима держался за лицо, вернулся Марик с финкой и бутылью спирта, он протер финку ветошью и вдруг схватил Симу за горло, тот закричал и ничего не успел сделать – финка вошла в рот и надрезала страшный нарыв, ну все, все, сказал инвалид, теперь будешь жить, все, Сима, иди, иди…
С тех пор у Симы на шее, под подбородком, оставался маленький розовый след, как от удара ножом. Марик проколол ему шею тогда, но удивительно, что не было никакой крови – один гной.
Петя спросил однажды отца, Якова Израилевича Либермана, правда ли, что на фронте у людей не болели зубы, нет, конечно неправда, откуда такая глупость вообще… но болели меньше, вдруг улыбнулся он. Некогда было об этом думать – у кого болели сильней, те просто просили взаймы спирт, дергали сами, резали сами, врачи же были на ранениях, челюстно-лицевых операциях, тогда не до золотых коронок, конечно, было. Впрочем, подумав, сказал он, были и штабные врачи, они, конечно, ставили коронки, делали мосты для генералов, полковников, в общем, для тех, кто имел такую возможность.
Потом он задумался и рассказал историю. В пятидесятые годы под Смоленском, после института, меня вызвали в штаб, а там, в Смоленске, может быть, ты не в курсе, был лагерь при еврейском гетто. Короче, меня вызвали в штаб и показали несколько чемоданов, я не помню, сколько именно, может пять, а может три, и в них лежали зубы – коронки, мосты, золотые зубы, их выдирали без обезболивания, конечно, просто щипцами, на многих были следы крови. Они думали, в штабе, может, это ценные для медицины вещи, хотели посоветоваться. Я сказал – нет.
И потом долго не мог к зубному ходить, ни к Аронычу, ни к кому, но потом это прошло у меня, так о чем ты хочешь спросить, Петя, дорогой?..
Про фронт, напомнил Петя. Да, про фронт, точно. Про фронт. Отец рассеянно улыбался.
Когда Петя уже подрос, окончил институт, выбрал стоматологию, не пошел по стопам отца, не стал заниматься мужскими болезнями, а выбрал стоматологию, отец попросил Ароныча первый год за ним присмотреть. Там, на Большой Дорогомиловской. И Ароныч действительно присматривал, давал советы, приободрял, если что, оценивал риски в сложных случаях, познакомил со «своими» – рентгенологом, зубным техником, лабораторией. Потом у Пети появились тоже все «свои», рентгенолог, техник, без знакомства было никак нельзя, тут у нас вообще, немного ворчливо говорил Ароныч, особые отношения. Ты пойми, это закон, так устроена стоматология, без рекомендации нельзя, есть рекомендация – прекрасно, нет рекомендации – извините. К тебе человек пришел по рекомендации, значит, ты чувствуешь перед ним ответственность, и наоборот, ты ему рекомендуешь специалиста, и он к нему идет со всем уважением. Петя постепенно вникал в суть этой несложной теории.
Ароныч велел ему запоминать анекдоты, говорить комплименты дамам, ну не сложные, самые простые, чтобы снять напряжение, – это очень важно.
Однажды Петя спросил отца, в чем причина, почему Михаил Ароныч Соловьев так ревностно исполняет отцовскую просьбу, помогает, учит. Он такой ответственный человек? Да нет, улыбнулся отец, и опять сверкнула его улыбка, не в этом дело, он мне должник, понимаешь? Петя молчал, пытаясь понять, отец с Аронычем не общался и не пересекался, наверное, уже лет двадцать, а то и больше, ну как тебе сказать, сказал отец, ничего тут в общем, необычного нет, просто бывает так, что вдруг в жизни определенного человека ты играешь определенную роль.
– Определенную? – спросил Петя.
Да, да, определенную, раздраженно ответил отец, что тут непонятного?
Во время этих ночных бдений, когда бессонница брала свое и не помогали корвалол, валокордин, фенозепам, димедрол, иван-чай, водка – ничего не помогало, и он бродил из одной комнаты в другую, на Ароныча нападало нелепое раздражение, он спрашивал себя, почему так получилось, что он тут ночует один, в этой крошечной двушке, где в одной комнате его зубной кабинет, а в другой спальня, и даже ноги поставить некуда, почему он ночует наедине с черной светящейся в темноте мраморной плитой, почему его жена давно живет в другой квартире, почему Алла каждый вечер тоже уходит к себе домой, почему дети уже в Израиле, а он тут сидит, на Делегатской. И чтобы не злиться на себя понапрасну, он вставал, накидывал куртку и шел по родным местам, несмотря на глухую ночь. Как-то так получилось, что в восемьдесят первом году старик-маклер, со своими карточками, исписанными мелким противным почерком, отселил его в результате родственного обмена сюда, в родные места.
Тут они встречались с ребятами и шли в парк ЦДСА, вдали громадой возвышался театр Советской армии, похожий на огромную уродливую синагогу, в праздничные дни здесь все рябило от фуражек. Тут был и театр армии, и Центральный дом офицеров: шикарный буфет, блестящие концерты, клуб, шахматы и парк с прудиком в середине, гостиница ЦДСА, офицеры со всей страны жили в этой гостинице, порой месяцами, приводили в Центральный дом офицеров дам, на танцы и на концерты, в ресторан и буфет, этот острый мужской запах в светящейся темноте парка, одеколон и табак.
Тут же рядом начиналась Селезневка, на которой ничего еще не было, ни этих огромных новомодных домов из желтого кирпича, самым крупным строением были бани, если не считать пожарной каланчи, по субботам в бани была очередь, тоже из офицеров, с березовыми вениками, с чемоданчиками, мужской отдых за кружкой пива, офицеры были красные, распарившиеся, здоровые мужчины, курили и горланили о своем, стоя под фонарем, и тут же пропадали в темноте, ныряли в темноту, со своими мокрыми полотенцами и стиранными наспех трусами.
Москва была городом темноты, фонарей было мало, ты шел, осторожно ощупывая взглядом пространство, звенел в темноте трамвай, роняя искры, из темноты на тебя выпрыгивали люди, кошки, наглядная агитация, город рано темнел, по небу шарили прожектора, офицерские шинели соседствовали с ватниками и короткими черными пальто.
После того как он в первый раз пригласил Елену Ивановну к себе, на это ушла пара месяцев упорных звонков и долгих подробных свиданий, и она, пережив случившееся, долго лежала на животе и курила, накинув на голую спину легкое покрывало, вдруг случилось странное – Елена Ивановна заговорила. Он сначала не мог понять, что случилось, но она вдруг начала болтать без умолку, не то чтобы что-то важное, какие-то обычные дрязги на работе, в поликлинике ВЦСПС. Что заведующая отделением дура, но муж у нее работает в неврологии, в академическом институте на Щукинской, профессор, и вот она нос задрала, а что задирать, это ж не она профессор, я ей говорю, давайте как-то разумно подходить, ну почему я все время в субботу должна дежурить, это же несправедливо, а ее всю трясет, глаза выпучила и молчит, – он сидел на кровати, в одной рубашке и ласково кивал, поглаживая ее по спине, на которую было накинуто легкое покрывало, а она смотрела в окно и курила, сладко так болтала, какую-то ерунду, он быстро понял, что можно особо не прислушиваться, ей хочется поболтать.
Просто он представлял ее совершенно другим человеком, а каким, не очень понятно, каким он себе ее представлял человеком, до этого момента все ее фразы казались ему короткими и значительными, например, когда он покупал цветы, она кокетливо погружала лицо в букет роз и говорила: балуете нас, Михаил Аронович, мы не заслужили, и у него кру?гом шла голова. Ну или в ресторане, она просто ела, но всегда очень мало, улыбалась, курила и коротко спрашивала – а с кем ты поздоровался, а ты не боишься, что тебя со мной увидят, за этой немногословностью ему чудилось нечто такое, чего раньше не встречалось: умная женщина, не просто красивая, с красивыми ногами и высокой грудью, самостоятельная, резкая, умеющая одеваться, умеющая шутить, но еще и умная, этого он ждал и боялся, как сам будет выглядеть на ее фоне, и вдруг она начала неудержимо, безостановочно болтать, о какой-то ерунде: расслабилась, отпустила себя, ему это и нравилось и не нравилось. Раньше он был ей благодарен за отсутствие дежурных разговоров о кинофильмах, о художниках-импрессионистах, о летающих тарелках и последних публикациях в журнале «Знание – сила». Да, он решил, что ей не нужно выглядеть умной, она и так умна, а тут оказалось, что она боялась его, но потом, когда все уже случилось, решила больше не бояться. Это было мило, но что-то заныло в душе, Ароныч думал об этом непрерывно, Елена Ивановна, со своими разговорами о поликлинике ВЦСПС и о злой заведующей отделения, была подарком в его жизни, да, конечно же, подарком, по-прежнему кружилась голова от шуршания ее колготок, синтетических, гэдээровских, по-прежнему замирало сердце, когда она брала его за руку, по-прежнему она восхитительно одевалась и раздевалась, но исчезло то, что, оказывается, их связывало – она была чем-то похожа на ту женщину, из дома отдыха, в Крыму, под Форосом, которая уехала внезапно, молчаливая женщина, с которой он просто поцеловался после танцев, и она внезапно уехала, и он думал о ней много лет, как оказалось, Елена Ивановна не была на нее похожа. Он уже не знал, куда деваться от этих подробностей, от этих двух- или трехчасовых сеансов полного погружения в ее жизнь, насыщенную всякой чепухой, безобидной, как легкая цветочная пыльца – цены в магазине, телепередачи, вся та чушь, которую ей рассказывали словоохотливые пациенты во время физиотерапевтических сеансов в поликлинике ВЦСПС, а она потом вываливала эту чушь на него. Ей страшно хотелось поговорить, но уже после этого, а он вдруг понял, что ему нечем ответить, все, о чем он думал, было попросту не для нее. Да и ни для кого. Вообще.
Она быстро все поняла. Однажды задумчиво сказала: странное дело, вот если б у тебя кабинета этого не было, то вообще и не было бы ничего? И так со всеми вами, частниками – то скульпторы, то дантисты, потом вдруг осеклась и посмотрела на него – не слишком ли много сказала?
– Скульпторы? – осторожно поинтересовался он. – Они, говорят, много получают?
Но она только пожала плечами.
Расставаясь, Елена Ивановна вдруг спросила: ну что, не жалеешь, что тогда денег с меня не взял?
– Да иди ты к черту! – рассердился он.
И она рассмеялась нагло. И опять стала прежней.
Дом, где жил Сима Каневский, стоял через забор от синагоги во 2-м Вышеславцевом переулке. Синагога была чуть выше его дома, темно-коричневое здание с большой крышей, с деревянными колоннами по фасаду, широким крыльцом и высокой дверью.
Все это было видно, если подставить деревянный ящик и подтянуться на заборе, с улицы вход в синагогу закрывали яблони, которые росли и по ту, и по эту сторону забора, огромные яблони с кривыми стволами. Осенью в траве у дома Каневских густым слоем лежали мелкие красные яблоки, которые собирали лениво и не очень охотно, чтобы сварить пару ведер компота или пару тазов варенья, остальное некуда было девать. Осенью их, детей, эти оставшиеся в траве яблоки заставляли собирать в мешок, чтобы не сгнили и не распространяли тяжелый гнилой запах, чтобы не было этой едкой коричневой каши под ногами, – и потом с их же помощью отправляли мешок на ту территорию, мешок скрывался за высокой дверью синагоги, и больше его никто не видел.
Теоретически им всем было известно – Кольке Лазареву, Мишке Соловьеву и другим – что яблоки «отдают нищим», но кто такие эти нищие, и где они живут, и как они выглядят, ни Либерман, ни Соловьев, ни их родители не знали, а вот мама Симы Каневского знала, она иногда с наступлением сумерек выходила на улицу, и в час, когда тихий раввин шел из синагоги к трамваю, чтобы ехать домой, она его окликала и разговаривала с ним на другом языке.
Родители Либермана и Соловьева тоже разговаривали дома на этом другом языке, но делали это крайне редко, и то только для того, чтобы дети ничего не поняли, но они понимали, верней догадывались, и в свою очередь, родители прибегали к другому языку все реже. А вот мама Симы Каневского говорила на нем свободно и спокойно, стоя с раввином у забора, как будто случайно остановив его на пути к трамвайной остановке. Каждый раз после этих разговоров в доме Каневских начинались какие-то странные вещи: приходили опрятно одетые, но очень бледные и какие-то невесомые мужчины и женщины, у них были очень старые, давно нечищеные ботинки, мать не ставила им белых больших тарелок, не усаживала за огромный стол с белой скатертью, чтобы они не стеснялись, просто наливала на кухне суп в миску, иногда отдавала старые вещи – детские и взрослые: прохудившиеся штаны, вязаные кофты, которые уже нельзя было носить, какие-то, с точки зрения Симы, совсем ветхие тряпки, но они забирали все с благодарностью и уходили, часто мама Каневская относила в синагогу какие-то другие дары – например, полную кастрюлю драников, приготовленных из картофельных очисток, или кисель, сделанный из черного хлеба…
Сима Каневский не понимал, почему все это происходит, и стыдился этой стороны маминой жизни.
Никому даже в голову не могло прийти – ни Лазареву и его русским родителям, ни татарину Мустафину, ни соседям, – что папа Каневский, или сестры Каневские, или вообще кто-то из нормальных советских людей может войти в эту калитку, пройти узкой дорожкой красного колотого кирпича и взойти на это широкое крыльцо синагоги. Туда ходили только ветхие старики в черных шапочках-кипах или в шляпах, их было совсем мало, и только через маму Каневскую какая-то связь с этим миром все же была, и эта связь смущала Симу, он не понимал, откуда берутся эти нищие люди, с их запахом, с их физически ощутимым голодом, кругом тоже все недоедали, всем не хватало всего – хлеба, овощей, круп, о мясе почти забыли, – но люди работали, все приносили с работы какие-то пайки, все стояли в очередях с карточками в руках, все как-то справлялись. Непонятно было, как в советском государстве, да еще в Москве, могли появиться люди, которые с этим не справлялись, он спросил отца, Даню Каневского, тот болезненно поморщился и сказал, что ничего в этом не понимает, мама Каневская в ответ на его вопросы очень коротко ответила, что эти люди, которым она носит еду или кормит их на кухне, они оттуда, где были немцы, из Белоруссии, Украины, беженцы, что пока что дома им негде жить и нечего есть, это еще больше напугало Симу, он просто не понимал, как при советской власти человеку может быть негде жить и нечего есть, наверное, это были какие-то особые люди, которые от горя немного сошли с ума. Он поделился этим открытием с Мишкой Соловьевым, и тот легкомысленно сказал, что не нужно обращать внимания на странности старшего поколения.
Ароныч вспомнил, как однажды они с Симой Каневским внезапно зашли в синагогу. В этот день, в сентябре, они стояли вдвоем на деревянном ящике и смотрели через забор, и вдруг Сима сказал, что на самом деле в синагоге никого нет, он точно это знает, а дверь открыта, по какой-то странной причине все куда-то делись, включая раввина, и тогда, повинуясь общему чувству, они выбежали на улицу и толкнули плечом соседнюю калитку, пробежали по осколкам красно-бурого кирпича и толкнули плечом уже следующую, высокую дверь. Здесь было темно, блестел огромный семисвечник, высокий потолок смыкался над их головами, и от его балок спускались вниз огромные белые бумажные свитки с русскими и еврейскими буквами, на которых он разглядел знакомое имя – «Сталин», это была молитва за Сталина, тут хлопнула дверь, они испуганно пригнулись, и раввин прошел куда-то через одну дверь в другую и исчез во внутреннем дворе, они выскочили назад, задыхаясь, проскочили обратное расстояние за две секунды и, увидев маму Каневскую, без обиняков спросили, что там могло быть написано. И она просто сказала, что надписи эти висят давно, уже больше года, и на них написана благодарность Сталину и всему советскому народу за победу над фашизмом.
Эти слова Мишка Соловьев, который не стал еще тогда Аронычем, вспомнил в день смерти Сталина. Он зашел в дом к Каневским и увидел рыдающую маму Надю, которая увидев их и смутившись, вдруг плакать перестала и твердо сказала, что при Сталине не было погромов, поэтому она плачет, а что же будет теперь, она не знает, и никто не знает, поэтому у нее навернулась «непрошеная слеза». Но это была, конечно, не непрошеная слеза, а целый поток непрошеных слез, и Сима побледнел, не зная, как реагировать, и Мишка понимал его, потому что проблема была не в том, что мама Каневская плакала над Сталиным, весь мир плакал над Сталиным, все прогрессивное человечество плакало над Сталиным, проблема была в том, что у мамы Каневской была какая-то своя, слишком особая причина плакать над Сталиным, в то время как все прогрессивное человечество плакало над Сталиным, как над вождем мирового пролетариата и руководителем мирового коммунистического движения и просто как над самым мудрым и человечным человеком, – а мама Каневская плакала о чем-то непонятном, о том, видите ли, что при Сталине не было еврейских погромов, это было не просто странно, это было даже как-то нехорошо. Ведь квартира, в которой жили Каневские, не была отдельной, хотя и располагалась в отдельном доме, там жили разные люди, и многие, услышав такую вот речь, могли бы тоже прийти в недоумение и даже оскорбиться, но, слава богу, все в этот день горевали, плакали, поминали товарища Сталина, и никому в голову не пришло обращать внимание на эти странные слова мамы Нади о еврейских погромах, какие погромы, о чем это вообще, о фашистах, что ли, но Сталин-то тут при чем…
Яков Израйлевич Либерман, отец Пети, в тот день быстро расправился с курицей, а в ответ на неприязненный взгляд сына как-то кисло улыбнулся и потом нахмурился.
А в воскресенье мать уехала на дачу, и он сказал, что научит Петю, как готовить голубей. Петя опять слушал его, как загипнотизированный. Он никак не мог поверить в то, что это происходит именно с ним, или, может быть, он не мог не подчиниться отцовскому гипнозу, это было страшно и весело. Отец поднялся на чердак, у него был ключ от их необъятного чердака, они жили в обычной девятиэтажке, на улице Павла Корчагина, на чердак он иногда, по договоренности с дворником, оттаскивал ненужные вещи. Это было вполне объяснимо, что у него оказался этот волшебный ключ от чердака, которого не было и не могло быть у других, отец знал вообще всех людей в мире, и все люди в мире знали отца, это было вполне понятно, непонятно было то, почему на этом чердаке живет так много птиц, там было какое-то море голубей, сотни, они разом захлопали крыльями, и поднялась пыль вместе с перьями, подсвеченная солнцем из узких окошек, живая клекочущая масса, отец подошел к ним на мягких пружинистых ногах и просто кинул шляпу.
Оказывается, он взял с собой шляпу, Петя этого даже не заметил, шляпу и силок – петлю на веревочке, силком он мгновенно задушил штук семь голубей, Петя даже не успел охнуть, как это произошло, потом он важно отнес их в шляпе домой и пошел на кухню – ощипывать и жарить, прокол был в одном – перья они спустили в туалет, и когда голуби с ужасом и восторгом были уже ими съедены, вдруг выяснилось, что главное условие – чтобы мать ничего не узнала – не может быть соблюдено. Пух никак не хотел отправляться вниз по канализационной трубе, отец бледнел, краснел, пыхтел, но сделать ничего не мог, этот чертов пух был легче воды, он сразу бросался в глаза, он портил весь праздник, сам запах они выветрили быстро (была осень, холодный воздух ворвался в кухню мгновенно, как вор), следы уничтожили, а вот пух болтался в унитазе предательской уликой. Отец перестал улыбаться и напряженно думал, что делать, как избежать разоблачения, и наконец додумался, спустив в унитаз полведра желтого грязного песка, который тоже почему-то (большой кучей) лежал там на чердаке.
Петя вспоминал всю эту историю со смехом, а потом, через несколько лет, уже после института, когда отец лежал в больнице и он часто приходил к нему, во вторую неврологию в Боткинскую, куда отец, конечно же, тоже попал по блату, ведь он знал всех людей в мире, и все люди в мире знали его, тот сам вспомнил и сам стал говорить про голубей. Он стал говорить, что тогда, в Марьиной Роще, в сорок третьем году, после эвакуации, было очень страшно потерять продуктовые карточки, а их, пацанов, часто посылали отоваривать карточки, взрослым было некогда стоять в очередях по три-четыре часа, они работали и отправляли их, пацанов, однажды он потерял карточки, была сырая мерзлая весна, март, противное солнце резало глаза, и он шел по улице, по 2-му Вышеславцеву переулку, и рыдал, рыдал, он никак не мог остановиться, шел и рыдал, ему страшно было идти домой. И вот тогда Яшу Либермана увидел Ароныч, то есть Мишка Соловьев, и повел к Симе Каневскому, и мама Симы Каневского дала ему картошки и написала записку его маме, он даже не знал, что в ней написано, просто бережно нес, боясь и записку тоже потерять вместе с картошкой, голос у отца как-то дрогнул, и вдруг Петя понял, что же значили для него эти голуби, да, да, сказал отец, как будто услышав его мысли, мы тогда ели все что угодно, голубей, ворон, мы бы и кошку могли съесть, только не собаку, но собак не было. Собак тогда почти не было…
Зайтаг
Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь, перестала спать в 1930 году, в июне.
Это не было связано с ее личной жизнью, с жизнью страны, с каким-то особым событием, или неприятным происшествием, или вообще с чем-то психиатрическим.
Как потом выяснилось, была у нее такая болезнь, воспаление нервных окончаний где-то в каком-то отделе ее головы, не ведущее ни к каким другим последствиям, кроме одного – у нее пропал сон.