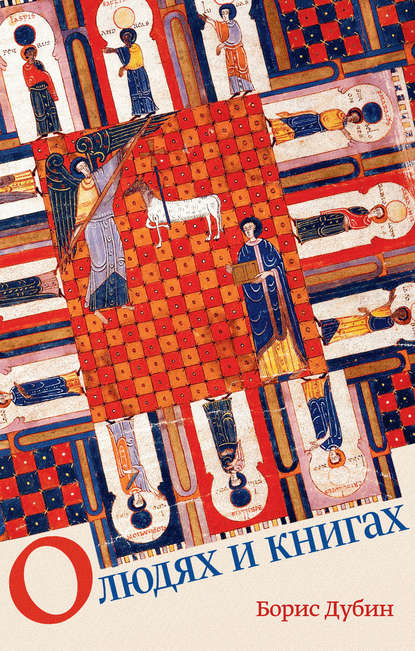По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О людях и книгах
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «поисковый» перевод; здесь переводчик идет от того, что любой «оригинал» есть в определенном смысле только «черновик», причем он не связан с фигурой автора как непререкаемого авторитета, – текст как бы анонимен и всегда только пишется (продолжается, разворачивается). В этом смысле всякое высказывание есть «перевод», а в родном языке переводчика тоже нет ничего «готового»: этот язык ему еще предстоит придумать и задним числом обосновать – отметить в нем «свое» или специально подчеркнуть «чужое». Отношение к своему «естественному» родному языку продиктовано для переводчика острым ощущением того, чего в нем нет; иными словами, это отношение к «своему» языку в перспективе «чужого», как к «чужому».
Вот этим последним типом перевода, по-моему, как раз и занимался Борхес. Больше того, он положил такой перевод в основу новой «литературной антропологии»: для него писатель (человек пишущий) – это не Бог-Творец, не всемогущий и всевидящий Демиург, это – и именно с маленькой буквы! – читатель и переводчик. В его понимании перевода – понимании, замечу, крайне радикальном, Борхес в литературе отнюдь не консерватор – как будто бы даже нет такой привычной всем переводчикам характеристики, как знание языка оригинала. Показательно, что переводы, чаще всего обсуждаемые Борхесом, – скажем, поэм Гомера и сказок «Тысячи и одной ночи», – сделаны с языков, которых сам Борхес не знал; он любил повторять слова о том, что Данте и Шекспир тоже не знали греческого, но постоянно перекладывали и транспонировали греческие оригиналы.
Скорее, для борхесовской концепции перевода важны такие качества переводящего, как сознательность, собранность, внимание. Или такие, как способность к перевоплощениям, борьба с повторением, я бы даже рискнул сказать, «не-верность» – неверность тексту, неверность самому себе, сказанному автором или тобой прежде («сознательная и удачная недостоверность», скажет Борхес об одном, по его мнению удачном, переводе «Сказок тысячи и одной ночи). Такие, наконец, как предчувствие будущего, которое все перепишет и перетолкует, сознание собственной неокончательности, открытости текста в завтрашний день и непредсказуемости его перемен вместе с изменениями языка, мысли, человеческого сознания. «Его подвело развитие языка», – пишет Борхес об авторе другого перевода «Тысячи и одной ночи», перевода наиболее популярного среди читателей-современников, но очень быстро устаревшего.
Поэтому главными для Борхеса в его работе были не переводы отдельных книг (таких работ у него как раз немного – «Дикие пальмы» Фолкнера, «Собственная комната» и «Орландо» Вирджинии Вулф, «Варвар в Азии» Анри Мишо), а случайные, полускрытые, «косвенные», говоря его любимым словом, заведомо неклассические формы перевода – отрывок, процитированный в рецензии; фрагмент, переведенный (и нередко с третьего языка-посредника) для антологии; собственный текст, мистификаторски выданный за перевод, и наоборот. Перевод для Борхеса – не просветительская транспортировка всеобщей, готовой и обязательной классики с одного языкового склада на другой. Так называемый реалистический подход к переводу (как и вся стоявшая за ним эстетика реалистического романа XIX века) для него – достояние лишь одной и, в общем, не такой уж длинной литературной эпохи, которая к тому же, по его мнению, завершилась. «До» нее пишущие свободно создавали свои книги из любого подручного материала, крайне мало заботясь при этом о «точности» (поскольку они ведь не знали позднейшего понятия литературы, автора, книги и подобных им экономико-правовых установлений буржуазной эпохи). «После» нее, уже в собственно борхесовское время, все эти категории, не потеряв своего смысла на литературном рынке и в суде, были поставлены под сомнение в культуре. И всякому сколько-нибудь сознательному писателю пришлось теперь задаться вопросами, как и для кого писать, как (по выражению Бориса Эйхенбаума) «быть писателем». Из чего, напомню, и родилась борхесовская литература, вобравшая, наряду со многим прочим, его чувства и мысли читателя, самокритика, переводчика.
Дальние горизонты
Век разума
Мишель Фуко вырос в семье врача и, кроме философского образования, получил институтские дипломы по психологии и психопатологии. В те же юношеские годы он после попытки самоубийства оказался на приеме у психиатров госпиталя Святой Анны в Париже, а через несколько лет приступил там же к работе психолога.
Понятие душевной болезни в медицине и место психиатрии в обществе – главный предмет интересов молодого Фуко.
Этому была посвящена его первая книга «Психическая болезнь и личность» (1954), тот же круг идей он развивает в «Истории безумия…» (1961), которую точно и внятно перевела теперь Ирина Стаф[22 - Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. с фр. И. Стаф под ред. В. Гайдамака. СПб.: Университетская книга, 1997.], и в «Рождении клиники» (1963), готовящейся к русскому изданию. Но перед нами труды не историка, не медика, а философа, который всматривается в подоснову общей мысли, в образы наших фантазий. А занимало Фуко всегда одно: из чего исторически исходит, в каких формах мышления и практики реализуется и во что, в конце концов, упирается сегодня европейская идея человека – человека как носителя разума и как обладателя тела.
Почувствуют ли читатели парадоксальность самого заглавия рецензируемой книги? Автор сталкивает в нем, казалось бы, несовместимое: темные страсти души – и классическую ясность европейского рацио, «гордость» индивида Нового времени, его героическую историю – и его «позор», болезнь, отнимающую человеческий облик и толкающую назад, к животной природе. Но в том и состоят мысль и метод Фуко.
Он показывает, что так называемое безумие – продукт коллективной работы: оно целенаправленно делается. И делается именно разумом, который обнаруживает в безумии сам себя.
(Век разума – это и век уязвимости разума, его страхов перед собой и защиты от этих страхов.) Больше того, в подобном самоутверждении «от противного» есть свои вполне постижимые этапы и формы, свои учреждения и специалисты с их интересами, альянсами, борьбой и т. д. – короче, у сумасшествия есть история (история у рассудка и неразумия – одна!).
И разум и история завязаны у Фуко на структуры господства и принуждения. В этом его особый, «археологический» подход к цивилизации. Разные системы знаний и мнений вместе с их молчаливыми предпосылками, касайся они веры или богатства, здоровья или свободы, тела или духа, неотрывны для Фуко от повседневной практики социальных институций, чья цель – подразделять и нормировать «человеческий материал» (исправительный лагерь и дом призрения, психлечебница и казарма, школа и тюрьма). Все они проводят в жизнь «классический» европейский проект рациональной постройки нового общества и перекройки самого человека – программу контроля над его умом и дрессуры его тела, сортировки особей и выращивания образцов.
Подобная критика авторитарной власти, ее догматических прописей и дисциплинарных резерваций оказалась к 1960-м годам на перекрестке интересов западной науки, журналистики, искусства.
Дебаты вокруг этих тем (напомню вышедшую в том же году, что и монография Фуко, книгу известного американского социолога Ирвина Гофмана «Узилища»[23 - Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York, Doubleday, 1961.], опубликованный годом позже роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом»[24 - Kesey K. One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Viking Press & New American Library, New York, 1962.]) во многом подготовили молодежный бунт 1968-го, сдвиги в культуре и обществе 1970-х годов.
В «Истории безумия» Фуко показывает переход от средневековых представлений о неразумии, связанных еще с феодальной иерархией и традиционной религией (герои тут – церковные юродивые, площадные дурни, придворные шуты – фигуры публичные, с которыми общество ведет диалог), через ренессансный «Корабль дураков» и «Похвалу глупости» к уже чисто светской, «земной» трактовке сумасшествия в классическую эпоху. Тут оно переходит в руки «профессионалов», а предметом их внимания выступают праздные и больные, лица неполноценные и неправомочные (персоны приватные, которых изгоняют и изолируют). Развиваются две стратегии борьбы с помешательством – судебная (лишение свободы, поражение в правах) и медицинская (госпитализация, принудительное лечение). Возникает неразрывная пара «врач и пациент». Выстраивается гигантская сеть соответствующих учреждений со своим штатом и распорядком, финансами и архивами, сферами влияния и системами поддержки.
Но еще важней другое. Идея сумасшествия, образы маньяка, меланхолика или истерички лишаются прежних значений «греховности» и «зла»; они проникают теперь в самый склад западных представлений о человеке, в философию, идеологию, искусство, быт.
И чем четче формулируются параграфы законов и диагнозы врачей, чем выше растут ограждающие помраченных стены, тем неистребимей это присутствие умалишенного в коллективном воображении Запада, тем острей сомнения европейцев в собственном рассудке. И тем трудней свести неразумие лишь к помутнению ума или недугам души, а больного – к объекту изоляции и терапии, тем слабей возможность отгородиться от истин «другого сознания» чисто негативной характеристикой с помощью «без» или «не».
Недаром же вместе с рождением психиатрической клиники безумие, до тех пор безмолвствовавшее, стенавшее без слов либо переводимое на язык своих судей, надсмотрщиков и целителей, начинает говорить самостоятельно.
На исходе Просвещения раздаются пророчества Сведенборга, звучат богохульства маркиза де Сада, клубятся кошмары Гойи. Позже эстафету «речей безумца» подхватывают Блейк и Гёльдерлин, Нерваль и Ван Гог, Ницше и Стриндберг, Мунк и Арто… Они – герои заключительных страниц книги Фуко (и его будущих трудов). Но это уже за пределами классической эпохи.
Роман-цивилизация, или Возвращенное искусство Шахерезады
«Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь чужой жизнью?» – спрашивает герой памуковской «Черной книги»[25 - Памук О. Черная книга / Пер. с турецкого В. Феоновой; Предисл. Б. Дубина // Иностранная литература. 1999. № 6.] (по-турецки ее заглавие звучит еще лучше: «Кара Китаб»), на самом деле задавая этот вопрос – так уж устроена любая книга! – нам, ее читателям. А каждый из шести изданных на нынешний день романов Орхана Памука прочитали сегодня сотни и сотни тысяч людей не только у него на родине, но и в большинстве стран Запада. Сорокасемилетний на нынешний день Памук – вероятно, главное открытие в мировой литературе 1990-х годов (вместе с ним событием, кажется, стала и вся новейшая турецкая проза, включая совсем не «женские» романы писательниц Латифы Текин или Эмине Эздамар, в зеркала которых сейчас с интересом вглядывается Европа).
Орхан Памук – представитель старой и состоятельной семьи выходцев из греко-турецкого городка Маниза (древняя Магнезия) неподалеку от Смирны, спорившей в свое время за право считаться родиной Гомера. Учился в американском Роберт-колледже, лучшей стамбульской спецшколе, три года стажировался в США, с тех пор живет в Стамбуле. Дебютировал в 1979 году, двадцатисемилетним. В начале 1990-х итальянский писатель Марио Бьонди окрестил Памука турецким Умберто Эко. «Великий турецкий роман», – представлял «Черную книгу» испаноязычным и французским читателям в 1996 году Хуан Гойтисоло. «Если говорить словами Борхеса и Памука…» – заканчивалась рецензия на американское издание «Кара Китаб» (1995) в газете «Нейшн». Дар воображения, пластическую силу и убедительность Памука сравнивали с энергией фантазии у Германа Гессе и Итало Кальвино, Джеймса Грэма Балларда, Уильяма Гасса, Дженет Уинтерсон. Мне же он напомнил тех – не раз и не два поминавшихся Борхесом – полуночных сказителей, confabulatores nocturni, которые слово за слово сплетают в веках бесконечную книгу «Тысячи и одной ночи» и которых звал к себе с восточных базаров скрасить бессонницу легендарный Зу-л-Карнайн, Александр Великий. С ковроткаческой выдумкой повествователей из городского торгового люда Памук соединяет многослойную аллегорическую метафорику ученой поэзии суфиев. Не зря герой нескольких «рассказов в рассказе», составляющих головокружительные галереи и лабиринты «Кара Китаб», – автор знаменитой и беспредельной «Книги о сокрытом смысле», легендарный персоязычный поэт-мистик XIII века Джелаледдин Руми, получивший титул Мевляна (наш господин).
Роман Памука – четвертый у него по счету – был написан в 1985–1989 годах, опубликован в 1990-м, через год известный турецкий кинорежиссер О. Кавур снял по книге фильм (позже вышли памуковские романы «Новая жизнь», 1994, и «Меня называют Красный», 1998, ставшие в Турции уникальными по популярности бестселлерами). Поскольку «Черная книга» – если брать лишь один из уровней повествования – детектив («первый турецкий детективный роман», как отмечено в самом его конце), то я не стану излагать сюжет, прослеживать повороты запутанной интриги и предварять криминальную развязку. Скажу лишь, что перед читателями – классический, родовой образец романного жанра, «роман поиска» (novel of the quest). Причем поиск этот ведется опять-таки в нескольких направлениях и нескольких смысловых планах: Памук – писатель-симфонист, мастер большой формы; одному из рецензентов его роман напомнил гигантский кристалл Дантовой «Комедии».
Герой романа Галип (Шейх Галиб – эта подразумеваемая перекличка важна! – крупнейший турецкий поэт-суфий XVIII века, член братства последователей Руми) несколько дней ищет по огромному Стамбулу внезапно пропавшего брата, известного журналиста, мистификатора, исследователя чужих секретов и любителя головоломных псевдонимов Джеляля и свою, тоже исчезнувшую, жену, поклонницу зарубежных детективов Рюйю (по материнской линии она, кстати, принадлежит к роду пророка Мухаммада, а ее имя означает «мечта, греза»). Идущий по следам брата Галип отыскивает по его старым заметкам и памятным для них обоих с детства уголкам города самого себя, сливаясь с образом брата, больше того – как бы занимая его место и становясь писателем. «Единственный способ для человека стать собой, – заключает он в финале книги, – это стать другим, потеряться в историях другого».
Джеляль в своих корреспонденциях – ими перемежаются сюжетные главы романа – пытался, среди прочего, разгадать тайну Мевляны: понять загадочную фигуру его духовного возлюбленного-двойника и наставника-муршида, «зеркала его лица и души» Шемса Тебризи, разобраться в подробностях и смысле таинственного убийства Тебризи – из тоски по ушедшему другу и родилась у Руми его великая «Маснави». Кроме того, журналист, видимо, оказался опасным свидетелем политических игр в верхах. С образами закулисного комплота и тайного общества в роман входит дальняя и ближняя история Турции в ее отношениях с мифологизированным Западом: тема скрытого спасителя-мехди и лжемессии с его лжепророками, мотив готовящегося пришествия антихриста (перекличка с «Легендой о Великом инквизиторе»), череда исторических развилок и нового выбора пути в сменяющихся попытках жесткой модерниза-ции сверху и консервативного противостояния им снизу – вплоть до кемалистской революции первой четверти XX века, левого подполья 1940–1950-х и военного путча в начале 1980-х годов. Романный quest приобретает еще более обобщенный, глубокий смысл. Наконец, через биографии героев в «Черную книгу» вплетаются мотивы религиозной ереси и двойничества. Дело в том, что братства-ордена хуруфитов и бекташитов, суфийская философия которых подпитывает сюжетные перипетии романа, развивают шиитскую версию ислама, тогда как подавляющая часть турецкого населения по официальной религиозной принадлежности – сунниты.
Виртуозно оркестрованное повествование, то отвлекаясь в сторону и как бы спохватываясь лишь через несколько глав, то делая ложные ходы и тут же посмеиваясь само над собой, бликуя из второй части в первую и наоборот, эпизод за эпизодом набирает широту и силу. Рассказ о нескольких днях из жизни трех человек, наращивая слои как автобиографического, так и исторического материала, которые к тому же перекликаются друг с другом, становится своего рода хартией ближневосточного жизненного уклада – старой цивилизации, где сочетаются язычество и христианство, правоверный ислам и конкурирующие с ним движения и секты, седая древность и новомодная однодневка; так в находках на дне Босфора из заметки Джеляля соседствуют олимпийские византийские монеты и крышки от газировки «Олимпос». В сторону замечу: видимо, большую романную форму – по крайней мере, в XX веке – не поднять и не удержать, не синтезировав кропотливую реальность частного времени и места с универсальным горизонтом символов и идей, не соединив древность начал и высоту ориентиров. Кстати, не частый, но и не такой уж редкий в завершающемся столетии всеохватный «роман-цивилизация», роман-хартия (прообраз их всех, джойсовский «Улисс», непредставим ни без гомеровской архаики, ни без католической литургии и латинской патристики, ни без дублинского нового Вавилона, но далеко не каждая даже из припозднившихся литератур может подобным жанровым монстром похвалиться) – по-моему, одна из перспективных разновидностей крупной прозаической формы именно в последние десятилетия: для примера назову хотя бы «Хазарский словарь» Милорада Павича и «Лэмприровский словарь» Лоренса Норфолка, «Энциклопедию мертвых» Данило Киша, «Палинура из Мехико» Фернандо дель Пасо и «Дух предков, или Праздничную кутерьму на Иванову ночь» Хулиана Риоса. Причем подобная итоговая «хартия» не только вбирает в себя прошлое, по привычной нам формуле Белинского об энциклопедическом своде исторической и обыденной жизни нации (роман Памука – неисчерпаемая коллекция бытовых вещей, умений и имен, примет своего времени, в том числе – утерянных, забытых, потонувших или запавших в щель безделушек и мелочей), но и загадывает грядущее. В стереоскопической игре «тайной симметрии» – Гойтисоло говорит о «призматическом видении» Памука – роман постоянно отсылает не только к прошедшему, но и к будущему времени, а в 11 главе первой части, в очередном вставном рассказе одного из полуконспиративных персонажей, разворачивается картина утопического государства завтрашнего дня.
Метафоры тайного сокровища и неотступного – то скрытого, то явного, а то и ложного – двойника, перекличка облика и отображения, города и карты, игра снов и зеркал, а в конце концов – жизни и искусства в смене их сходств и различий («Все убийства, как и все книги, повторяют друг друга», – роняет один из персонажей) – сквозные мотивы «Черной книги». Так, одно из навячивых видений Джеляля – «третий глаз» («…глаз – это человек, которым я хотел бы быть»). Эта образная нить – Гойтисоло вспоминает в связи с Памуком иллюзионистскую архитектуру борхесовских новелл и сервантесовского романа – дает и чисто сюжетные узлы (скажем, представленный легковерным журналистам из Би-би-си макабрный театр исторических манекенов в заключительных главах I части или подпольный публичный дом, где каждая из обитательниц изображает турецкую кинозвезду, соответственно выступавшую некогда в нашумевшем кинохите в роли девицы легкого поведения). Но развиваются эти метафоры и в более общем плане – как своего рода философия романного письма. Здесь Памук повествовательными средствами разыгрывает, доводя до гротеска, некоторые идеи хуруфизма, своего рода исламской каббалистики с ее идеей соответствий между чертами внешнего образа (обликом места, лицом человека), буквами арабского алфавита и божественным строем мира в его пространственном и временном целом. В главе «Тайна букв и потеря тайны» из части II символическая значимость любого предмета, имени, жеста, поступка вырастает перед героем до циклопического наваждения, угрожая ему утратой разума.
Вероятно, самая блистательная находка Памука здесь – замечательно воссозданный им в хронологической многослойности и социальной полифонии образ Стамбула. Гойтисоло верно замечает: подлинный главный герой романа – город. И какой! Город-символ, разорванный, как всякий символ, надвое между Европой и Азией. Палимпсест трех тысячелетий. Столица четырех империй, от Римской до Османской, включая средневековую Латинскую, основанную крестоносцами. Странствия героев по пространству стамбульских кварталов, по векам истории, этапам собственной жизни, часам изменчивого дня – особое и увлекательнейшее измерение «Черной книги». Уверен, ее будущие издания еще снабдят особым атласом и путеводителем, но уже и для сегодняшних читателей памуковский Стамбул вошел в особую литературно-историческую географию наряду с гамсуновской Христианией и Парижем Пруста, Бретона или Кортасара, борхесовским Буэнос-Айресом, беньяминовским или набоковским Берлином и милошевским Вильно, Мадридом Гомеса де ла Серны, Гаваной Лесамы Лимы и Кабреры Инфанте, Александрией Кавафиса и Даррелла. Не случайно одна из финальных, символически нагруженных сцен романа – конкурс на лучшее изображение достопримечательностей и красот Стамбула, иронически рассчитанный опять-таки на глаз иностранца. Картины размещены в зале городского ресторана. Первую премию получает участник, придумавший повесить на противоположной стене гигантское зеркало. И очень скоро зрители замечают, что образы в зеркале живут своей жизнью – сложной, непредсказуемой и грозной…
«Другая Америка» Сьюзен Сонтаг
Дебютная книга эссеистики Сьюзен Сонтаг вышла в Нью-Йорке и Лондоне в 1966 году, уже за первый год выдержала, по моим сведениям, не меньше десяти допечаток, тут же была переведена на итальянский (1967), немецкий (1968) и голландский (1969) языки, а позже – на испанский (1984), китайский (2003) и польский (2012) и, не раз на этих языках потом републикованная, сразу – тем более за многие годы – вызвала на каждом из них шквал откликов. К читающим по-русски этот самый, вероятно, известный и даже нашумевший сборник писательницы приходит почти через полвека (по другому счету – через два поколения), хотя несколько промежуточных публикаций «для интересующихся» все же было[26 - Отмечу, кажется, первое по времени: заглавное эссе книги, переведенное Виктором Голышевым и опубликованное в журнале «Иностранная литература» в 1992 г. с предисловием Алексея Зверева (в том же году в «Независимой газете» появилось в моем переводе эссе «Под знаком Сатурна» из одноименного сборника).]. Так что первую книгу большинство читателей прочтет и воспримет сквозь более поздние, вышедшие на русском в издательстве «Ад Маргинем Пресс» за последний год – «О фотографии», «Смотрим на чужие страдания», два тома дневников. Это неотвратимо смещает восприятие, но, хотелось бы думать, еще и относительно обогащает его взглядом через анфиладу пространств и времен.
Собственно, все, что Сонтаг хотела сказать, она в своей книге с обычной внятностью и энергией сказала, к тому же дополнив ее в 1996 году послесловием, где с достаточной жесткостью подвела итоги сказанному три десятилетия назад (специально подчеркну там парадоксальные, казалось бы, слова о своей позиции «хранителя культуры» и своем подходе к искусству как «традиционном»). Что осталось за пределами всего этого и что, пожалуй, нелишне иметь в виду сегодняшнему читателю русского издания?
Над проблемами интерпретации искусства Сонтаг начала думать задолго до непосредственной работы над статьей, давшей заглавие ее книге: по дневникам и записным книжкам условное «начало» можно датировать 1956–1957 годами[27 - См.: Сонтаг С. Заново рожденная. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 146–147; в последней записи указываются «Заметки об интерпретации», над которыми идет работа.]. Я бы сопоставил тогдашние записи еще с одной, более ранней: «Искусство… всегда стремится к независимости от… разума»[28 - Там же. С. 23.]. В открывающем книгу эссе – достаточно одного только его вызывающего заглавия (и титула книги в 300 страниц!) – Сонтаг дает формулу своего подхода, быстро ставшую крылатой: нужна не герменевтика, а эротика искусства. Это поворот принципиальный и, как видно в теперешней ретроспективе, крайне важный для искусства второй половины XX столетия в целом и, конкретно, для многих из тех фигур, от Андре Жида до Борхеса, которые на протяжении десятилетий привлекали интерес Сонтаг.
Тем самым, если говорить по необходимости более чем коротко, автор «Против интерпретации» на место восприятия как понимания поставил восприятие как воздействие, на место автора с его замыслом – читателя, слушателя, зрителя с его опытом, на место «глубины» – «поверхность», на место пассивности или реактивности «отражения» и «усвоения» – волю к выбору и деятельному самоосуществлению (но и к самоуничтожению[29 - «Самоуничтожение, исчерпание собственного смысла, самого значения изложенных понятий, – в природе любой духовной программы. (Почему „дух“ и приходится каждый раз изобретать заново.)» (Sontag S. Styles of Radical Will, N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1976. P. 33).]). Приоритет воли – добавлю и попутно напомню заглавие второго сборника эссеистики автора, «Образцы безоглядной воли», – значимая для Сонтаг традиция, идущая от Ницше, Шпенглера, а потом Карла Шмитта (о последнем Сонтаг узнала, вероятно, через его ученика и корреспондента Лео Штрауса, чьи лекции слушала шестнадцатилетней в Чикагском университете).
Важна здесь и связь между эротикой и самой потребностью писать, крайне существенная для самой Сонтаг и для авторов, ее в наибольшей степени интересовавших, – подскажу лишь Арто и Батая, Жене и Октавио Паса, Бруно Шульца и Хулио Кортасара (никто, понятно, никому не обещал, что подобная эротика будет только лишь ласковой и нежной).
Речь здесь и об эросе письма, и о почти обязательном для Сонтаг, как не раз признавала она сама, восхищении тем, о чем пишешь (и это – при репутации скандалистки!). Отсюда, возможно, ее отрицательная в ретроспективе оценка двух включенных в книгу «Против интерпретации» театральных обзоров, к тому же заказных, в которых преобладает язвительная критика. Кстати, этот не слишком частый у Сонтаг в эссе и чаще представленный в ее актуальной журналистике (интервью и т. п.) критический, даже сокрушительно-критический тон приоткрывает, по-моему, еще одну особенность ее откликов на те или иные события в современном ей искусстве. Я имею в виду резкое, без околичностей и невзирая на личности отторжение от большинства того, что принято и пользуется успехом в ее «среде», – от «больших» тем и стилей, от социально озабоченных и потому несамостоятельных, эпигонских драм Артура Миллера или Джеймса Болдуина, от нашумевшей постановки не сходящих с первых газетных страниц Питера Брука или Джона Гилгуда, актерского исполнения таких бродвейских «звезд» и фигур «светской» хроники, как Эйлин Херли либо Ричард Бартон. Гораздо больше внимания и понимания у Сонтаг вызывают и всегда вызывали художественная неудача, крах – и в каждом отдельном случае, и как принципиальная черта новейшего искусства, творческого поведения художника эпохи модерна[30 - Характерна в этом плане ее заметка о Симоне Вейль в настоящей книге или эссе о Вальтере Беньямине «Под знаком Сатурна», вошедшее в одноименную книгу 1969 г. Момент поражения и «никудышности» как принципиальную характеристику интеллектуального слоя образованного еврейства или, точнее, одного из его типов выделяет в своей развернутой статье 1968 г. о Беньямине и Ханна Арендт, см.: Арендт Х. Вальтер Беньямин, 1892–1940 // Она же. Люди в темные времена. М.: МШПИ, 2002.].
Подход к искусству как к не столько говорящему, сколько действующему объясняет, я думаю, и явное в книге «Против интерпретации» да и во всех других художественно-критических откликах Сонтаг предпочтение, которое она отдает искусствам недискурсивным (живописи, скульптуре, хеппенингу и, конечно, обожаемому с детства искусству искусств – музыке), часто даже совершенно беззвучным (немое кино, фотография, танец), либо как будто бы и вовсе «не-искусствам» (дизайн, садово-парковая архитектура) перед слишком многословной литературой, и особенно ее ключевым для Нового времени, наиболее велеречивым жанром – романом (многотомным романом-потоком, романом-эпопеей и т. п.). Характерна радикальная, даже, кстати, и по отношению к изобразительному искусству, реплика, брошенная попутно, между делом, почти вскользь: «Если живопись и проза не могут быть не чем иным, кроме как строго избирательной интерпретацией, то фотографию можно охарактеризовать как строго избирательную прозрачность»[31 - Сонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 16.] (и это опять-таки на первых страницах книги в триста страниц). Отторжение словесного – у такой запойной книгоглотательницы, составительницы бесконечных планов чтения и неистовой покупательницы бесчисленных книг… С другой стороны, читатели, не исключаю, обратят внимание и на практически полное отсутствие поэзии на горизонте Сонтаг как аналитика и рецензента. Упоминания поэтов у нее крайне редки: в ранних дневниках выделяются разве что Джерард Мэнли Хопкинс, иногда – Т. С. Элиот, позже – Цветаева (но скорее как прозаик) и Бродский (один из ближайших друзей, но опять-таки чаще как эссеист).
И, пожалуй, еще один, последний – чтобы самому не быть уж слишком многоглаголющим и назойливо интерпретирующим – момент, на который хотелось бы предварительно указать читателям; впрочем, мне кажется, они и так обратят на него внимание. За исключением, кажется, двух театральных хроник, о которых уже упоминалось, в книге почти нет американского искусства и, что еще показательнее, вовсе нет американской литературы. Взгляд Сонтаг обращен на Европу и редкие, если не единичные, отражения европейского «духа» в Америке. Резко критическое отношение автора к американской политике – и тогда и позднее – известны. Но тут другое: речь о культуре.
Если опять-таки обобщать и неизбежно огрублять факты и тенденции, то американская культура, по преимуществу словесная, в особенности роман, привлекла внимание за географическими пределами США и, можно сказать, сделала – в первой половине XX века – серьезнейшую заявку на мировое значение прежде всего воплощенным в ней «духом места», или, если угодно, «национальным духом», понимать ли под ним «Богову делянку» Колдуэлла или «Манхэттен» Дос Пассоса, «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона или фолкнеровскую Йокнапатофу. Так вот, ничего этого в книге Сонтаг (да и в других сборниках ее эссе, вплоть до последнего прижизненного «Куда падает ударение» и вышедшего уже посмертно «А в это время») нет. И дело, конечно, не в достаточно банальном и расхожем «антиамериканизме» «левых» – ни тот ни другой коллективный ярлык (почему я и заключил их в кавычки) Сонтаг не подойдут. Напротив, такое значимое отсутствие принципиально важно для индивидуальной, персональной самоидентификации Сонтаг как человека думающего и пишущего (отошлю к ее словам о себе в эссе «Тридцать лет спустя»: «…таких людей, как я, больше не оказалось»).
Говоря в Берлине в 1988 году о значении для нее «идеи Европы», Сонтаг подчеркнула: «Я нечасто думала о том, что Европа значит для меня как американки. Я думала о том, что она значит для меня как гражданина республики словесности, а это гражданство – интернациональное». Подобное значение Европы Сонтаг определила одним словом – «освобождение» – и детализировала свое прежнее понимание: «Многоликость, серьезность, разборчивость, насыщенность европейской культуры – вот та архимедова точка, опираясь на которую, как думалось, я могу в уме перевернуть мир. Сделать это из Америки я бы не сумела… Поэтому Европа важна, намного важнее для меня, чем Америка»[32 - Sontag S. Where the Stress Falls. L.: Vintage, 2003. Р. 285–286.]. Уточняя написанное и пользуясь формулой не чуждого Сонтаг Чеслава Милоша из «Другой Европы» (так во Франции назвали одну из его лучших, наиболее автобиографичных книг), я бы сказал, что в сборнике, который читатели сейчас держат в руках, они, может быть, увидят «другую Америку». По крайней мере, я на это надеюсь.
Честь открытия фигуры Сьюзен Сонтаг и ее книги «Против интерпретации» для русского читателя принадлежит, как уже было упомянуто, Алексею Звереву. В 2003-м, как оказалось, последнем для него году, мы обсуждали с ним возможную публикацию сборника «Куда падает ударение», других ее книг, может быть, некоего избранного и думали потрудиться над ними вместе. Посвящаю эту свою работу светлой памяти Алексея Матвеевича.
Вена до аншлюса: предисловие к XX веку
В Вене к началу века жили примерно четыреста тысяч человек (причем коренного населения – не больше трети, миграция в город шла бурная); она входила в пятерку крупнейших мегаполисов Европы после Лондона, Парижа и Берлина и перед Петербургом. Миллион не может быть организован так же, как сотня. Это другого типа устройство, со сложнейшими формами связей и отношений.
В Вене конца XIX – начала XX века сошлось несколько мощнейших силовых линий – социальных, культурных, демографических, чисто художественных. В этом смысле она – генеральная репетиция всего столетия. Для многим ей обязанного румынско-французского мыслителя Эмиля Чорана Вена – урок краха: «Радость для европейцев закончилась в Вене». Для опять-таки за многое благодарного ей мыслителя грузинско-русского, Мераба Мамардашвили, Вена – урок свободы, искусства «жить своей жизнью, не чужой, умирать своей смертью, а не чужой». Оба философа, замечу сразу, ставят Вену под знак гибели, в которой – глубокий урок.
Главное – конец в 1918 году империи Габсбургов, давно уже бессильной, пережившей себя как социальное объединение. По крайней мере два десятилетия шло внутреннее окостенение власти, переставшей сколько-нибудь влиять на развитие страны, на ситуацию в обществе, на круги складывающихся элит. Это был политический коллапс, крах бюрократического управления. И авторитет, и реальная действительность императорской власти близки к нулю, император превратился в фигуру чисто номинальную, даже в символическом своем обличье мало что значащую. Традиционная аристократия воспринимала любую извне идущую идею как угрозу и соперничество, полностью распадалась, разлагалась, не была уже способна управлять. Австрийская военщина стала пугалом и посмешищем всей Европы (впрочем, ее хватило, чтобы подтолкнуть страну к балканской авантюре, а потом и Европу к огромной войне).
Точно так, как у нас сейчас, все происходившее было предельно обострено этим распадом империи. Кто чувствует себя брошенным? Те, кто идентифицировал себя с целым, хотя этого и не осознавал, но сейчас переживает крах самоотождествления как осознание отсутствия, «фантомную боль». Здесь и начинаются эти «Америка, которую мы потеряли», «Россия, которую мы потеряли», весь круг потерь, действительно с середины XIX до конца XX века продолжавшихся.
В Вене – как, кстати, и в России – процесс становления национального государства из-под обломков распадающейся империи (примерно к 1980–1990-м годам) припозднился по сравнению с Европой минимум на поколение, если не на два, и я думаю, это придало особую болезненность, надрыв собственно культурным, научным, художественным поискам конца XIX – начала XX века. По идее, линию австрийскую наднациональную, в отличие от немецкой национальной (а 20 % населения империи составляли венгры, 16 % – чехи и словаки, еще по 10 % – сербы и поляки и так далее), должны были воплощать традиционная аристократия и государство, стоящие над любыми частными интересами. Не получалось ни того ни другого.
И отдельный человек, и все общество проходят некоторые стадии в отношении к уходящей системе, которые мы не всегда фиксируем. Есть фаза ощущения естественности порядка, его вечности – ан его уже и нет. Стефан Цвейг вспоминал начало XX века в Вене как «золотой век надежности. Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, рассчитано на вечность, и государство – высший гарант этого постоянства».
Есть другая фаза, когда начинаешь видеть зазор между этим порядком и какими-то другими возможностями, какие-то трещины в этом порядке; монолит начинает раскалываться изнутри. Но потом все это собирается в один удар – и кажется, что мир рухнул разом, обвально, как это и произошло с Австро-Венгрией в Первую мировую войну. Когда смотришь назад уже после того, как пыль осела, оказывается, все это начиналось поколением раньше, вот здесь, и здесь, и здесь, но пока не собранное в единый кулак, в единый удар. Что-то менялось на уровне семьи, что-то предвещалось в искусстве, какие-то приглушенные, полузадавленные движения происходили на уровне политического устройства. Потом, позднее, из этого всего начинает выстраиваться картина – и мы опять собираем некую единую историю, в которой уже вполне отчетливы и моменты подготовки распада.
Плавильный котел