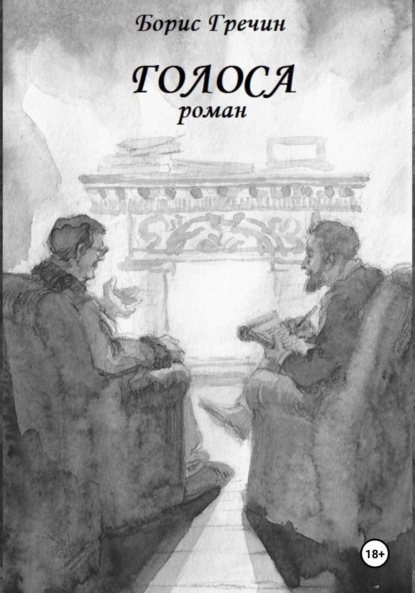По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собеседник улыбнулся краем губ. Ответил:
– Не против, хотя слишком уж много внимания к моей скромной персоне.
– Не столько к ней, сколько к вашему проекту, потому что он очень, очень меня захватил! – признался я. – И даже не результатом, а тем, как именно вы над ним работали. Мне показалось, что на наших глазах из ниоткуда возникло некое волшебное сообщество счастливых интеллектуалов, свободных от рутины серых будней, некий ludi magistri unio
, выражаясь языком Гессе, и эти исследователи занялись великолепной игрой в исторический бисер без оглядки на кого-либо, даже на условности науки и даже на читателей вашего будущего сборника. Вот это меня привлекло!
– Как замечательно, что вы вспомнили Гессе! – с теплотой ответил Андрей Михайлович (мне показалось, что при упоминании немецкого автора всё его лицо как-то разгладилось, смягчилось). – Да, меня тоже тогда посещал этот восторг исследовательского полёта, и именно это сравнение приходило на ум. Увы, любая игра заканчивается, иногда трагично. Я, к счастью, не утонул, как Йозеф Кнехт, и на том спасибо… Только тогда уж не в бисер – в крупный жемчуг. Мы, заурядные люди невообразимо пошлого века, брали в руки крупный жемчуг столетней давности и рассматривали его на солнце под разными углами… Не Бог весть какое достижение.
– Всё же большое, потому что другие жители нашего «невообразимо пошлого века» предпочитают рассматривать дешёвые стекляшки повестки дня, а не жемчуг старины, – парировал я.
– Это лестно, спасибо.
– И я хотел бы, Андрей Михайлович,– перешёл я в атаку, – узнать от вас все подробности работы вашей группы – если у вас есть досуг и желание, конечно. Может быть, в ходе наших бесед родится текст, который, поверьте, я опубликую только после того, как вы его одобрите.
– У меня действительно есть и время, и желание, представьте себе! – откликнулся собеседник. – Меня останавливает только чувство естественной скромности, да ещё… Вам не кажется, что в вашей затее имеется отчётливый привкус постмодерна? Простите, если это прозвучало обидно.
– Вы имеете в виду то, что я буду описывать не саму историю, а тех, кто работал с историей, писать исследование про исследователей? – догадался я.
– Именно.
– Да, это правда… но что же делать! Время жизни ограничено, а я – не Александр Солженицын, чтобы покушаться на создание нового «Красного колеса».
– А ведь он тоже не успел закончить свой труд, не знаю, конечно, насколько уместно «тоже» – мы ведь что-то закончили, хотя некто и скажет про нашу работу: «Гора родила мышь», – проговорил Могилёв, как бы размышляя вслух. – Кстати, наша работа в моих глазах, по крайней мере, была отчасти полемикой с Солженицыным и с теми акцентами, которые он невольно – невольно, подчеркну – расставлял. При этом, сумей он довести своё «Красное колесо» до конца, мы бы, возможно, даже не приступили к «Голосам» – зачем идти уже пройденным путём? А тут тропинка оборвалась в снегу, и захотелось протоптать её дальше.
– Вот видите, как интересно! Пожалуйста, рассказывайте.
Андрей Михайлович развёл руками.
– Я даже не знаю, с чего начать! – шутливо отозвался он.
– С самого начала.
– Хорошо, но «с самого начала» в моём случае означает, пожалуй, с моей юности. Неужели это тоже важно?
– Безусловно, – подтвердил я.
[4]
– Так и быть, я готов начать с юности, злоупотребляя вашим терпением, – заговорил рассказчик. – Я вырос в православной, воцерковлённой семье. Матушка пела на клиросе, а отец…
– …Был священником?
– Не угадали: реставрировал иконы и фрески. Он уже нежив, царствие ему небесное. Предполагалось, что по духовной линии может пойти ваш покорный слуга. Обсуждалось даже, что я мог бы закончить старшие классы в православной гимназии…
– А что помешало?
– Да, видите, просто не было в девяносто втором году достаточного числа православных гимназий, они только-только начали появляться! Одна, например, за год до моего окончания девятого класса открылась в… – собеседник назвал один из небольших городов в нашей области
, – не так уж далеко. Но этот город – совсем глухая провинция… и где жить старшекласснику, и на что? Хотя, кажется, отец звонил директору гимназии, строились серьёзные планы. Родители решили, что мне, так и быть, следует закончить свою школу в областном центре, но пробовать поступать в духовную семинарию – или уж сразу в Московскую духовную академию, если сподобит Господь. Ну что же, я готовился к этому, посещал катехизические беседы с батюшкой, штудировал толстый томик «Закона Божия». А поступил в итоге…
– Куда?
– На факультет иностранных языков в педагогический университет. Почему – и сам затрудняюсь сказать: что-то толкнуло. Чувство протеста, пожалуй. Я не «русский интеллигент», даже и близко нет! Пошлое название и пошлое сословие – в России со времён «Вех» ничего не поменялось, и по-прежнему можно подписаться под каждым веховским словом. Но если и есть во мне некая интеллигентская жилка, то она – именно в готовности к фронде, к нежеланию подчиняться тому, что решили за меня и до меня. Я при этом не был враждебен Православию, отнюдь! Я – как бы сказать это? – считал, что оно от меня никуда не уйдёт и что не нужно в Церковь вступать желторотым юнцом, ничего не знающим и не умеющим: невелико будет приношение.
Однако в семье меня не поняли, отношения с родителями охладели, и к последнему курсу я переехал вместе с одним приятелем на съёмную квартиру.
– Небось, и девочки появлялись на этой квартире? – не смог я удержаться от вопроса. – Простите, если…
– Сейчас, сейчас! Девочки будут совсем скоро…
[5]
– Окончание вуза поставило меня перед выбором: армия, сельская школа или аспирантура. Армия в ельцинские времена была местом несколько чрезмерно грубым и по царившим в ней нравам больше смахивала на тюрьму, чем на армию порядочного государства. Впрочем, не оправдываю себя, а всего лишь поясняю причины, по которым не захотел тогда призываться: я не видел большой доблести сражаться со старослужащими ножкой от табурета и пасть в этом сражении с проломленной головой. Возможно, в таких мыслях была доля высокомерия, некоего пошлого снобизма… но, повторюсь, я просто рассказываю свою историю, а не делюсь душевными терзаниями. Я выбрал сельскую школу, но при этом сумел сдать вступительные экзамены в аспирантуру. Причём по специальности «отечественная история», о чем ещё за два месяца до получения диплома специалиста даже и не думал, представьте себе!
– Почему именно история?
– Так сложилось. Дело в том, что свой диплом я писал по стилевым и грамматическим особенностям английской письменной речи начала XX века. Среди прочего я пользовался мемуарами Генбури-Уильямса, или Ханбери-Уильямса, как обычно записывают его имя. Его воспоминания – это, фактически, беллетризованный дневник.
– Увы, не слышал этой фамилии, – пришлось признаться автору.
– Это – английский военный атташе при ставке последнего Государя. Ну и, коль скоро мы заговорили о Государе, мимо его собственных писем, как и мимо писем Александры Фёдоровны, этой особой и трагической фигуры, я тоже не смог пройти. Они ведь переписывались по-английски, вы знаете об этом? Там и сям допуская небрежность в орфографии, но в целом – чистым, свободным языком. Именно тогда я начал, параллельно со своим дипломом, писать работу по истории, как бы зародыш будущей докторской и одновременно стартовую площадку для наших «Голосов». Эту работу я показал нашему преподавателю истории, с которым у меня сохранились тёплые отношения – он за это время перешёл в другой вуз. А Мережков ухватился за неё и, так сказать, перетащил меня на свою кафедру в госуниверситет, то есть в качестве аспиранта, конечно, но без его протекции я бы никуда не поступил. Кроме прочего, на факультете иностранных языков в педвузе диссертационного совета не было, да и докторов наук не хватало, а на историческом факультете диссовет был, и Аркадий Дмитриевич за пару лет до этого защитил докторскую, получил профессорское звание. Моя благодарность к нему смешивается с чувством вины – причём, знаете, сильной вины, с отчётливым горьким привкусом.
– Какой вины? Вы можете не рассказывать, конечно.
– Нет, отчего же? Я расскажу: пусть читатели вашей книги, если когда-нибудь родится книга, не строят никаких иллюзий в моём отношении. Тем более что мой бывший научный руководитель умер в прошлом году. Узнал об этом совершенно случайно, но, не узнав, конечно, постеснялся бы это всё вспоминать.
[6]
– Аркадий Дмитриевич был человеком, пожалуй, суховатым, малоэмоциональным, но при этом в личном общении очень простым. Его интересовала научная истина per se
, и ради этой истины он охотно пренебрегал условностями или, скажем, дистанцией между юным аспирантом и доктором наук. Моё кандидатское исследование касалось печально известного белогвардейского восстания в нашей губернии. Это восстание в обиходе называют «мятежом», до сих пор используя словесное клише, созданное при Советской власти, хотя, казалось бы, сейчас-то какая опасность отойти от этого клише? Только лень ума… Сама тема обязывала меня работать с архивами, во-первых, и с редкими провинциальными изданиями, во-вторых. Часть этих изданий была в личной библиотеке моего научного руководителя. Он поэтому поощрял мои визиты к нему домой и познакомил с женой, а жена Аркадия Дмитриевича была, так сложилось, на двадцать лет его младше…
– Кажется, я догадываюсь, – пробормотал я.
– Да тут несложно догадаться!
Мы оба немного помолчали.
– Я сопротивлялся как мог, – продолжал Могилёв. – Первый шаг сделала она. Назовём её хоть Алей, Аллой Александровной – фамилию и отчество я изменил. Только-только переставали быть предметом роскоши, входили в повседневность сотовые телефоны – тогда ещё в ходу были эти большие трубки, со штырьком антенны, вы их, наверное, уже не застали, – и вот Алла Александровна мне написала какое-то ничего не значащее, но личное сообщение. Потом – как-то само собой так вышло – мы оказались вместе на концерте классической музыки. Профессор хотел пойти на концерт с женой, но у него образовались дела, и Аля сказала мужу, что отдаст билет подруге – видимо, я проходил по категории «подруги»… Ещё вроде бы не предосудительное дело, верно? Но уже тогда можно было увидеть, к чему всё идёт. После – совместные прогулки, осторожные слова, полунамёки, четвертьпризнания. Одолженные друг другу книги – она была неравнодушна к литературе классической и современной, разбиралась в ней, и меня стремилась приохотить. Многозначительные фразы и абзацы в этих книгах, как бы нечаянно обведённые карандашом… Всё стало предельно ясно, когда Аля в шутку упрекнула меня, что попадёт из-за меня во второй круг ада. Почему? – спросил я. И тогда она посоветовала вспомнить историю Франчески да Римини.
– Но ведь в ад не попадают просто за… – осторожно заговорил я, увидев, что собеседник примолк и не спешит продолжать.
– Вы абсолютно правы! Просто за совместное чтение, посещение концертов и прочие такие невинные вещи в ад не попадают. Но беда в том, что у нас всё-таки дошло до… до плотского греха.
Моё очень малое оправдание в том, что мы оба были юны, и любили друг друга, и, наконец, я собирался на ней жениться после её развода, если бы только этот развод состоялся! А она была в ужасе от идеи о разводе. Конечно, меня тоже посещал озноб, потому что жизнь, не успев начаться, летела кувырком…
– Знаете, ваша история очень напоминает один из романов Хаксли, – произнёс я, чтобы перепрыгнуть через новую неловкую паузу.