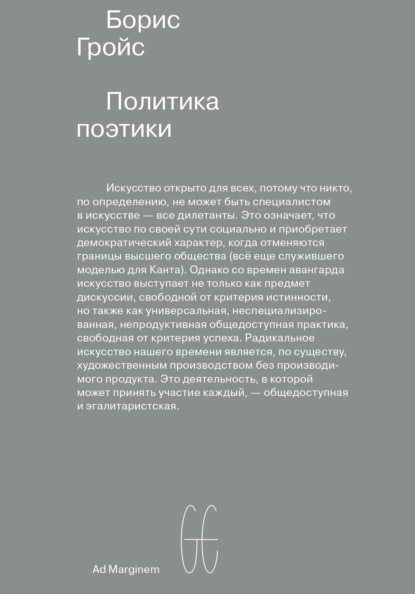По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Политика поэтики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Политика поэтики
Борис Гройс
Сборник статей философа и теоретика современного искусства Бориса Гройса составлен им самим из работ, вошедших в его книги Art Power (MIT Press, 2008) и Going Public (Sternberg Press, 2010), а также из статей, вышедших в американских и европейских журналах и каталогах.
Борис Гройс
Политика поэтики
Предисловие. Современное искусство как тотальность
Первое, что узнает читатель из большей части литературы о современном и модернистском искусстве, это то, что оба эти типа искусства (современное – в большей степени) радикально плюралистичны. Этот факт, казалось бы, совершенно исключает возможность описания искусства модернизма как определенного феномена, как результата коллективного труда нескольких поколений художников, кураторов и теоретиков – каким, например, представляется искусство Возрождения или Барокко. Невозможным также оказывается предъявить какое-либо произведение как абсолютно характерное, выражающее все тенденции модернистского искусства (тут я подразумеваю и современное искусство). На любой пример без труда можно найти другой, полностью ему противоречащий. Поэтому теоретики искусства оказываются изначально обреченными ограничивать свои интересы и концентрироваться на конкретных направлениях, школах, течениях, тенденциях или – что еще лучше – на работах отдельных художников. Единственный общий вывод о современном искусстве – это то, что обобщениям оно не поддается. Кругом одни различия. Приходится выбирать, принимать сторону тех или иных течений, формировать альянсы и смиряться с неизбежностью быть обвиненным в ограниченности или в рекламировании своих протеже в коммерческих интересах. Иначе говоря, плюрализм модернистского и современного искусства обессмысливает дискурс об искусстве. Самого этого факта достаточно, чтобы оспорить догму плюрализма.
Разумеется, каждое течение в искусстве провоцировало контртечение, каждая попытка сформулировать теоретическое определение искусства побуждала художников к созданию произведений, не подпадающих под это определение, и т. д. Если одни художники и критики полагали, что подлинное начало искусства лежит в субъективном самовыражении индивидуального художника, то другие требовали от искусства тематизации объективных, материальных условий его создания и распространения. В то время как одни художники настаивали на автономии искусства, другие – все более и более ангажировались политически. И на более тривиальном уровне – когда одни художники начинали создавать абстрактное искусство, другие становились ультрареалистами. Можно, следовательно, утверждать, что каждое произведение модернистского искусства задумывалось с целью противопоставить его так или иначе всем остальным уже существующим модернистским работам. Однако такое положение вещей отнюдь не означает, что модернистское искусство действительно плюралистично: ведь те работы, которые не задумывались как противопоставленные уже созданным, никогда не были признаны релевантными или подлинно модернистскими. Модернистское искусство функционировало не только как механизм включения всего того, что не воспринималось раньше как искусство, но и как механизм исключения всего того, что имитировало уже существующие художественные образцы в наивной, неотрефлектированной, неизощренной и неполемичной манере – то есть того, что не было спорным, провокативным, стимулирующим. Из этого следует: зона модернистского искусства далеко не плюралистична, она, напротив, четко структурирована согласно логике противоречий. Это зона, в которой заранее предполагается, что на любой тезис будет найден антитезис. В идеальном случае репрезентация как аргумента, так и контраргумента должна быть сбалансирована настолько, чтобы в сумме дать ноль. Модернистское искусство – продукт Возрождения, просвещенного атеизма и гуманизма. Смерть Бога означает, что ни одна из действующих в мире сил не может быть признана как господствующая над всеми остальными. Атеистичный, гуманистичный мир нового времени верит в баланс сил – и современное искусство является выражением этой веры. Вера в равновесие сил имеет регулирующий характер – благодаря этому современное искусство приобретает свою собственную социальную значимость и положение. Современное искусство предпочитает все, что устанавливает и поддерживает баланс сил, и стремится исключать все, что этот баланс может нарушить.
В прошлом искусство обычно стремилось представлять сторону абсолютной власти – будь то власть божественная или природная. Искусство как репрезентация подобной власти традиционно устанавливало собственный авторитет именно благодаря ей. В этом смысле искусство всегда было непосредственно или косвенно критично, поскольку конечной, политической, власти оно противопоставляло образы власти бесконечной – Бога, природы, судьбы, жизни, смерти. Сегодня государство также утверждает, что поддержание баланса сил – его абсолютная цель. Этой цели оно, конечно, никогда не достигнет. Можно утверждать, что современное искусство как целое стремится предложить картину утопического равновесия сил, превосходящую несовершенную государственную модель распределения власти. Гегель, первым описавший равновесие сил как основной принцип, нашедший свое воплощение в современном государстве, полагал, что в наше время искусство перестало быть релевантным. Иначе говоря, он не предполагал, что баланс сил можно представить с помощью образов. Он считал, что равновесие сил, в сумме дающее ноль, может быть только помыслено, но не увидено, что оно существует только для разума, но не для глаза. Однако современное искусство продемонстрировало, что ноль, как и идеальное равновесие сил, возможно манифестировать визуально.
Если не существует образа, который мог бы функционировать как репрезентация бесконечной власти, то все образы равноценны. И действительно, целью современного искусства является равенство всех образов. Но равнозначность всех изображений превосходит плюралистическую, демократическую равнозначность эстетических вкусов. Иначе говоря, всегда существует бесконечный избыток возможных образов, не соответствующих никакому вкусу, будь то вкус индивидуальный, высокий, маргинальный или массовый. Поэтому всегда можно обратиться к этому избытку невостребованных образов – и это именно то, чем занимается современное искусство. Уже Малевич утверждал, что он борется против искренности в художнике. Бродтхерс говорил, что он начал заниматься искусством, потому что захотел сделать что-то неискренное. Быть неискренним означает – в этом контексте – создавать искусство, не апеллирующее к какому-либо конкретному вкусу, включая свой собственный. Здесь идет речь об избытке плюралистической демократии, избытке демократического равенства. Подобный избыток одновременно стабилизирует и дестабилизирует демократическое равновесие вкуса и власти. Это тот парадокс, который реализуется современным искусством.
И не только искусство в целом можно рассматривать как воплощение парадокса. Уже в рамках классического модернизма, но в особенности в контексте современного искусства отдельные произведения стали парадоксальными предметами, вмещающими в себя как тезис, так и антитезис. Например, «Фонтан» Дюшана является и не является произведением искусства в одно и то же время, «Черный квадрат» Малевича – одновременно и геометрическая фигура, и картина. Художественное воплощение противоречия, парадокса вошло в практику современного искусства после Второй мировой войны. Картины этого периода можно рассматривать и как реалистические, и как абстрактные (Герхард Рихтер), объекты – как традиционные скульптуры и как редимейды (Фишли / Вайсс). Мы также сталкиваемся с работами, которые стремятся быть как документальными, так и фиктивными, и с художественными интервенциями, которые стремятся быть политическими в том смысле, что хотят преодолеть границы арт-системы, оставаясь при этом внутри нее. Кажется, что число таких парадоксов и произведений современного искусства, воплощающих их, может быть произвольно увеличено. Эти произведения искусства могут вызвать видимость того, что они потенциально способны спровоцировать в зрителе бесконечное множество интерпретаций, что их значение является открытым, что они не навязывают зрителю никакой конкретной идеологии, теории или веры.
Но эта видимость бесконечного плюрализма является, разумеется, лишь иллюзией. В действительности существует только одна правильная интерпретация, которая и навязывается зрителю: как предметы-парадоксы эти произведения искусства требуют идеально парадоксальной, самопротиворечивой реакции. Любую непарадоксальную или лишь отчасти парадоксальную реакцию следует в этом случае рассматривать как неполную или целиком ошибочную. Единственной адекватной интерпретацией парадокса является парадоксальная интерпретация.
Так, серьезная помеха нашему пониманию модернистского искусства состоит в нежелании принять как удовлетворительные и верные парадоксальные, самопротиворечащие интерпретации. Но это сопротивление необходимо преодолеть, чтобы мы могли увидеть модернистское и современное искусство в правильном свете, а именно – как обнаружение парадокса, управляющего равновесием власти.
В действительности быть предметом-парадоксом – нормативное требование, имплицитно относящееся к любому произведению современного искусства. Последнее лишь настолько ценно, насколько интересен воплощаемый им парадокс, насколько оно дополняет и поддерживает идеальное равновесие сил между тезисом и антитезисом.
В этом смысле даже самые радикально односторонние произведения могут рассматриваться как достойные интереса, если они могут помочь вернуть нарушенное равновесие в сфере искусства в целом.
Односторонность и агрессивность, разумеется, столь же значимые составляющие модернизма, как и стремление к уравновешенности и поддержанию баланса сил. Современные революционные или, можно сказать, тоталитарные движения и государства также ориентируются на равновесие власти, но в их случае это стремление основано на вере в то, что подобный баланс может быть достигнут исключительно путем перманентной борьбы, конфликтов и войн. Искусство, поставленное на службу подобному динамичному, революционному балансу власти, неизбежно принимает форму политической пропаганды. Такое искусство не ограничивается репрезентацией власти – оно принимает участие в борьбе за власть, в борьбе, понимаемой им как единственный способ, которым может быть поддержано истинное силовое равновесие. Я должен признаться, что мои собственные статьи, собранные в этом издании, также спровоцированы желанием внести некоторое равновесие в распределение сил в сегодняшнем мире искусства, а именно – выделить в нем пространство для искусства пропагандистского.
В современных условиях искусство может быть создано и представлено публике одним из двух способов: либо как предмет потребления, либо как политическая пропаганда. В каждом из этих двух режимов создается приблизительно одинаковое количество искусства. Но в современном контексте история коммерческого искусства привлекает значительно больше внимания, чем история искусства как средства пропаганды. Официальное, как и неофициальное искусство Советского Союза и прочих социалистических стран совершенно не попадает в сферу внимания историков современного искусства и музейной системы. То же можно сказать и о западноевропейском искусстве, финансируемом и распространяемом западными коммунистическими партиями, в особенности – французской. Единственным исключением является искусство русских конструктивистов, возникшее во время НЭПа, когда в Советской России был временно введен, хотя и в ограниченном виде, свободный рынок. Естественно, что такое пренебрежение политическим искусством, созданным вне стандартных условий рынка, имеет определенные причины. После окончания Второй мировой войны, и в особенности после смены режима в бывших социалистических странах Восточной Европы, коммерческая система создания и распространения искусства стала господствовать над политически мотивированным искусством. Понятие искусства стало почти синонимом понятия художественного рынка, так что работы, созданные вне рыночных условий, фактически исключались из сферы институционально признанного искусства. Подобная политика исключения, как правило, находит моралистическое оправдание: критиков тревожит этическая сторона интереса к тоталитарному искусству, которое якобы извратило истинные политические цели настоящего утопического искусства. (Это понятие извращенного искусства, противопоставляемого настоящему искусству, естественно, очень проблематично. Любопытно, что подобная терминология регулярно используется авторами, которые в ином контексте всегда стараются избегать понятия «извращение»). Интересно также и то, что даже самое строгое осуждение свободного рынка с моральных позиций никогда и никого не приводит к заключению, что искусство, созданное и по-прежнему создаваемое в рыночных условиях, необходимо исключить из критического и исторического рассмотрения. Кстати, для такого типа мышления характерно не принимать во внимание не только официальное, но и неофициальное (морально корректное), диссидентское советское искусство.
Но что бы ни думать о моральной стороне нерыночного тоталитарного искусства, она не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Репрезентация этого политически мотивированного искусства в художественных институциях не имеет ничего общего с вопросом о его моральной и эстетической ценности – так, никому не пришло бы в голову спрашивать о том, хорош или нет «Фонтан» Дюшана с моральной и эстетической стороны. В качестве редимейдов коммерческие товары получили неограниченный доступ к миру искусства, продолжающего исключать политическую пропаганду. Таким образом был нарушен баланс сил между экономикой и политикой в искусстве. Нельзя не заподозрить, что исключение искусства, не созданного в стандартных условиях рынка, имеет под собой лишь одно основание: доминирующий арт-дискурс отождествляет искусство с арт-рынком и не хочет принимать во внимание искусство, созданное и получившее распространение при любых иных условиях.
Важно отметить то, что подобное понимание искусства разделяется большинством художников и теоретиков, которые стараются культивировать критическое отношение к коммодификации искусства, то есть превращению его в товар, и требуют от самого искусства рефлексивного и критического отношения к этому процессу. Но рассмотрение критики коммодификации как основной, центральной или даже исключительной задачи современного искусства ведет лишь к утверждению тотальной власти арт-рынка – даже в том случае, когда это утверждение принимает форму критики. Искусство, рассматриваемое в этой перспективе, оказывается абсолютно бессильным, лишенным каких-либо имманентных критериев выбора и имманентной логики развития. Согласно этому типу анализа, сфера искусства полностью подчинена коммерческим интересам, которые диктуют в последней инстанции критерии исключения или включения произведений. Само искусство при этом представляется неким неудачным предметом коммерческого потребления, полностью подчиненным власти рынка и отличающимся от всех остальных товаров лишь своей потенциальной возможностью превратиться в критический или даже самокритичный товар. Понятие самокритичного товара, разумеется, глубоко парадоксально. В то же время, будучи парадоксальным предметом, самокритичное произведение искусства идеально помещается в доминирующую парадигму современного искусства. Изнутри этой парадигмы совершенно невозможно возразить против такого искусства – но возникает вопрос о том, можно ли рассматривать подобное искусство как действительно политическое.
Разумеется, каждого, кто как-либо причастен к искусству и критике, интересуют эти вопросы: кому решать, что является искусством, а что нет; более того, что считать хорошим искусством, а что – плохим? Художнику, арт-критику, куратору, коллекционеру, арт-системе в целом, рынку искусства, широкой публике? На мой взгляд, этот несомненно интригующий вопрос все же задан ошибочно. Кто бы ни принимал решения, касающиеся рынка искусства, он все же может оказаться не прав; широкая публика также способна допускать ошибки и допускала их в течение всей истории искусства. Не стоит забывать, что все искусство авангарда создавалось как протест против общественного вкуса – тогда (и в особенности тогда), когда оно создавалось во имя его самого. Из этого следует: демократизация аудитории – не решение проблемы. И просвещение зрителя также не является ответом, потому что все стоящее искусство всегда создавалось и продолжает создаваться вопреки каким-либо привитым, культивированным вкусам. Критика существующего рынка искусства и институций, безусловно, правомерна и необходима, однако она имеет значение только тогда, когда ее целью является привлечение нашего внимания к интересному и релевантному искусству, не замеченному этими институциями. И, как нам всем хорошо известно, когда подобная критика оказывается успешной, она приводит к апроприации недооцененного искусства этими институциями и тем самым – к их дальнейшей стабилизации. Критика рынка искусства изнутри способна улучшить его, но не приводит ни к каким фундаментальным его изменениям.
Искусство становится политически эффективным только тогда, когда оно создается вне рынка искусства, в контексте непосредственной политической пропаганды. Такое искусство создавалось в бывших социалистических странах. Современные примеры включают исламистские видео, a также плакаты, функционирующие в контексте современного антиглобалистского движения. Естественно, подобное искусство финансируется либо государством, либо различными политическими и религиозными движениями. Но его производство, оценка и распространение не следуют логике художественного рынка. Такое искусство не является товаром потребления. Особенно в условиях социалистической экономики советского типа произведения искусства никак не могли быть товаром, поскольку не существовало рынка как такового. Это искусство создавалось не для индивидуальных потребителей, гипотетических покупателей, но для масс, поглощающих и усваивающих его идеологическое содержание.
Конечно, можно с легкостью утверждать, что такое пропагандистское искусство является просто-напросто политическим дизайном.
И это означает, что в контексте политической пропаганды искусство остается таким же безвластным, как и в контексте рынка искусства. Такое утверждение является одновременно и верным, и ошибочным. Разумеется, художники, работающие в контексте пропагандистского искусства, не являются, выражаясь языком современного менеджмента, поставщиками контента. Они создают рекламу в определенных политических целях, которым и подчинено их искусство. Но что же это собственно за цель? Любая идеология базируется на некоем видении, на некоторой картине будущего – будь то образ рая, коммунистического общества или перманентной революции. И это то, что обозначает фундаментальное различие между рыночными товарами и политической пропагандой. Рынок, направляемый невидимой рукой, не может быть визуализирован: образы в нем циркулируют, но сам по себе он образом не обладает. Идеологическая же власть, напротив, всегда является властью, основанной на видении. И это означает, что, служа какой-либо политической или религиозной идеологии, художник непременно служит искусству. Именно поэтому он может противостоять режиму, основанному на идеологическом видении, гораздо более эффективно, чем противостоять рынку искусства. Художник работает на той же территории, что и идеология. Творческий и критический потенциал искусства проявляет себя поэтому гораздо сильнее в политическом, нежели в рыночном контексте.
В то же время искусство в идеологическом режиме остается предметом-парадоксом. Иначе говоря, любое идеологическое видение – всего лишь картина, образ желанного будущего. Материализация, воплощение же этого образа всегда неизбежно откладывается – до апокалиптического конца истории или до наступления общества будущего. Однако любое идеологически мотивированное искусство неизбежно порывает с политикой отсрочки, ибо искусство всегда создается здесь и сейчас. Естественно, идеологически мотивированное искусство всегда можно интерпретировать как прообраз будущего. Но его можно одновременно расценивать и как пародию на будущее и критику будущего, как доказательство того, что в мире ничего не изменится, даже если идеология будет воплощена в жизнь. Замена идеологического визионерства искусством является замещением священного времени бесконечной надежды профанным временем архивов и исторической памяти. После того как вера в заветные видения утеряна, все что остается – это искусство. Это означает, что все идеологически мотивированное искусство – будь то религиозное, коммунистическое или фашистское – непременно является и позитивным, и критичным одновременно. Любая реализация какого-либо проекта – религиозного, идеологического или технического – всегда является отрицанием этого проекта именно как проекта. Любое искусство, воплощающее видение будущего, на которое направлена определенная религиозная либо политическая идеология, профанирует эту идеологию и тем самым становится предметом-парадоксом.
Стоит отметить, что идеологически мотивированное искусство не принадлежит исключительно прошлому или маргинальным политическим движениям. Мейнстримное западное искусство сегодня все более и более функционирует в модальности политической пропаганды. Это искусство также создается и выставляется для массового зрителя, который совсем не обязательно планирует его приобрести.
В действительности «непокупатели» составляют подавляющую и все увеличивающуюся аудиторию искусства, выставляемого на регулярно организуемых международных биеннале, триеннале и т. п. Было бы ошибочным думать, что эти выставки существуют исключительно для самопрезентации и прославления ценностей артрынка. Скорее они каждый раз создают и демонстрируют равновесие сил между противоречащими друг другу тенденциями, эстетическими подходами и репрезентационными стратегиями, чтобы представить идеализированный образ подобного баланса.
Борьба против власти идеологии традиционно принимала форму борьбы против власти изображений. Антиидеологическая, критическая, просвещенческая мысль всегда стремилась избавиться от изображений, уничтожить или по меньшей мере деконструировать их с целью поставить на их место чисто рациональные понятия. Положение Гегеля о том, что искусство – дело прошлого, тогда как новое время – это эпоха Понятия, было провозглашением победы иконоборческого Просвещения над христианской иконофилией. Разумеется, диагноз Гегеля был правильным для своего времени, но он не предвидел возможности возникновения концептуального искусства. Модернистское искусство неоднократно демонстрировало свою способность апроприировать направленные против него иконокластические жесты и обращать их в новые модели создания искусства. Современное произведение искусства позиционирует себя как предмет-парадокс – как изображение и его критика одновременно.
Это гарантировало выживание искусства в условиях радикальной секуляризации и деидеологизации. Наше время, часто считаемое постидеологическим, также обладает своим образом – им стала престижная международная выставка, выражающая идеальное равновесие сил. Желание избавиться от любого изображения может быть реализовано исключительно с помощью образа – образа критики изображения. Эта фундаментальная фигура – художественная апроприация иконоборчества, создающая предметы-парадоксы, которые мы называем работами современного искусства, – основная тема, непосредственно или косвенно затронутая в статьях, собранных в этой книге.
Под взглядом теории
С момента своего возникновения современное искусство постоянно демонстрировало зависимость от теории. В то время голод по теории, который Арнольд Гелен позже назвал «потребностью в комментарии», объясняли тем, что модернистское искусство слишком «сложно» и потому непонятно широкой публике[1 - A. Gehlen. Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Aesthetik der modernen Malerei, Frankfurt: Athenaeum, 1960.]. Согласно этому взгляду, теория берет на себя роль пропаганды – или скорее рекламы: после того как произведение искусства создано, приходит теоретик и объясняет это произведение изумленной и недоверчивой публике. Как мы знаем, многие художники испытывают смешанные чувства по поводу теоретической легитимации собственного искусства. Они благодарны теоретику за его энтузиазм, но их раздражает тот факт, что их искусство предстает перед публикой в определенной теоретической перспективе, которая часто кажется им слишком узкой, догматичной и даже отпугивающей. Художник стремится к расширению своей аудитории, в то время как число теоретически информированных зрителей весьма невелико – даже меньше, чем аудитория современного искусства. Таким образом, теоретический дискурс оказывается формой антирекламы: вместо того чтобы расширять аудиторию, он ее сужает. И сейчас это даже более верно, чем раньше. Со времен раннего модернизма широкая публика более или менее смирилась с искусством своего времени. Сегодня публика признает современное искусство, даже не испытывая ощущения, что «понимает» его. Кажется, что необходимость теоретического объяснения искусства окончательно отпала.
Однако в действительности теория никогда не была столь важна для искусства, как сегодня. В чем же причина? Я бы предположил, что современные художники нуждаются в теории, чтобы объяснить, что они делают, не публике, а самим себе. В этом отношении они не одиноки. Любой современный человек постоянно задает себе два вопроса. Во-первых, что делать? А во-вторых (и этот второй вопрос еще важнее), как объяснить самому себе то, что ты уже делаешь? Настоятельность этих вопросов есть результат переживаемого нами острого кризиса традиции. Возьмем, например, искусство. В прежние времена заниматься искусством означало делать то, что делали предыдущие поколения художников, пусть даже формы художественной практики постоянно менялись. В новую эпоху заниматься искусством означало протестовать против всего, что делали предыдущие поколения. В обоих случаях было более или менее ясно, что представляет собой традиция и, соответственно, какую форму может принимать протест против нее. Сегодня мы имеем тысячи традиций, циркулирующих по всему миру, и тысячи различных форм протеста против них. Таким образом, тому, кто в наши дни хочет стать художником и создавать искусство, далеко не очевидно, что такое искусство и что он должен делать. Ему необходима теория, которая объяснит, что такое искусство. И такая теория дает художнику возможность для универсализации, глобализации своего искусства. Теория освобождает художника от его культурной идентичности – от опасности, что его произведения будут поняты как местный курьез. Она открывает перед искусством перспективу универсальности. Вот главная причина успеха теории в нашем глобализованном мире. В этом смысле теория предшествует художественной практике, а не следует за ней.
Однако здесь остается нерешенным следующий вопрос. Из того, что любая деятельность в наше время начинается с ее теоретического обоснования, можно сделать вывод, что мы живем в эпоху после конца искусства, поскольку искусство традиционно противопоставляется рассудку, рациональности, логике и помещается в область иррационального, эмоционального, теоретически непредсказуемого и необъяснимого.
Действительно, западная философия с самого своего начала была максимально критически настроена по отношению к искусству и отвергала его как машину по производству иллюзий и фикций. Так, для Платона понимание мира и его истины достижимо не на пути воображения, а исключительно на пути разума. Сфера разума традиционно включает в себя логику, математику, мораль и гражданское право, идеи добра и зла, систему управления государством – все методы и техники, на которых базируется общество. Эти идеи могут быть постигнуты человеческим разумом, но их невозможно репрезентировать средствами искусства, поскольку они невидимы. Таким образом, предполагалось, что философ отрешается от внешнего, феноменального мира и обращается к внутренней реальности собственного мышления, с тем чтобы исследовать это мышление и проанализировать его логику. Только таким способом философ достигал уровня разума как универсального модуса мышления, присущего всем разумным субъектам, включая, как говорил Эдмунд Гуссерль, богов, ангелов, демонов и людей. Следовательно, отрицание искусства может рассматриваться как принципиальный момент, конституирующий философию как таковую. Оппозиция между философией, понимаемой как любовь к истине, и искусством как производством лжи и иллюзий определяет всю историю западной культуры. Негативное отношение философии к искусству усугублялось из-за традиционного альянса между искусством и религией. Искусство функционировало как дидактический медиум, репрезентирующий трансцендентную, непостижимую, иррациональную власть религии: оно показывало богов и Бога, делая их доступными для человеческого глаза. Религиозное искусство представляло собой предмет веры – люди верили, что храмы, статуи, иконы, религиозные поэмы и ритуальные представления суть зоны божественного присутствия. Когда Гегель в 1820-е годы заявлял, что искусство есть дело прошлого, он имел в виду, что оно перестало быть медиумом (религиозной) истины. После эпохи Просвещения никто уже не обманывался насчет искусства: рациональная очевидность окончательно заместила эстетическое обольщение. Философия научила нас не доверять искусству и религии и вместо этого верить собственному разуму. Человек эпохи Просвещения презирает искусство, доверяя только самому себе, доводам собственного рассудка.
Однако современная критическая теория есть не что иное, как критика рассудка, рациональности и традиционной логики. Я имею в виду не просто ту или иную конкретную теорию, а критическое мышление в целом, которое берет начало во второй половине XIX века, в период упадка гегелевской философии.
Всем нам известны имена первых мыслителей, определивших новую эпоху. Карл Маркс положил начало современному критическому дискурсу, интерпретировав автономию разума как иллюзию, порожденную классовой структурой традиционных обществ, включая буржуазное общество. Субъект, выступающий от имени разума, понимался Марксом как представитель господствующего класса, освобожденный от физического труда и необходимости принимать участие в экономической деятельности. По Марксу, философ может отрешиться от мирских соблазнов лишь потому, что его базовые потребности уже удовлетворены, в то время как неимущие представители физического труда поглощены борьбой за выживание, не оставляющей им возможности предаваться незаинтересованному философскому созерцанию и воплощать собой чистый разум.
С другой стороны, Ницше объяснял философскую любовь к разуму и истине как симптом неспособности философа реализовать свою волю к власти в реальной жизни. Волю к истине он рассматривал как результат сверхкомпенсации недостатка витальности и реальной власти, заменой которым служат фантазии философа об универсальной власти разума. Философ наделен иммунитетом против соблазнов искусства просто потому, что он слишком слаб и немощен, чтобы соблазнять и быть соблазненным. Ницше отрицал мирный, чисто созерцательный характер философской установки. С его точки зрения, такая установка – всего лишь уловка, к которой прибегает слабый для достижения успеха в борьбе за власть и господство. За мнимой «незаинтересованностью» теоретика кроется «декадентская», «больная» разновидность воли к власти. Согласно Ницше, подлинной целью разума со всем его философским инструментарием является порабощение тех, чья воля к власти носит нефилософский, витальный, пассионарный характер. Впоследствии эту главную тему философии Ницше развивал Мишель Фуко.
Таким образом, первые теоретики описали фигуру философа и его позицию в мире с точки зрения обычного, профанного, внешнего наблюдателя. Теория рассматривает тело философа в таких аспектах его существования, которые недоступны для саморефлексии. Это то, что ускользает от взгляда философа, равно как и от взгляда любого субъекта: мы не можем видеть собственное тело, его положение в мире и материальные процессы (физические и химические, а также экономические, биополитические, сексуальные и т. д.), протекающие внутри и вокруг него. Это значит, что мы не в состоянии осуществлять рефлексию в духе философского предписания «познать самого себя». А что еще важнее, мы не можем приобрести внутренний опыт границ нашего временного и телесного бытия. Нам не дано увидеть собственное рождение и собственную смерть. Поэтому все философы, практиковавшие саморефлексию, приходили к выводу, что дух и разум бессмертны. Действительно, анализируя процесс своего мышления, я не нахожу никаких свидетельств его конечности. Для обнаружения границ своего существования я нуждаюсь во взгляде другого. В его глазах я читаю собственную смерть. Вот почему Лакан говорит, что глаз другого – это всегда дурной глаз, а для Сартра «ад – это другие». Только профанный взгляд другого дает мне понять, что я не только мыслю и чувствую, но что я также родился, живу и умру.
«Мыслю, следовательно, существую», – сказал Декарт. Но внешний наблюдатель, стоящий на позиции критической теории, мог бы сказать о Декарте: он мыслит, потому что существует. И это в корне подрывает мое знание о себе. Возможно, я знаю то, что мыслю. Но я не знаю, как я живу – я даже не знаю, что я жив. Поскольку я лишен опыта собственной смерти, я не могу знать себя как живущего. Мне следует спросить других, живу ли я и как я живу – следовательно, я должен также спросить у них, что в действительности я думаю, поскольку мое мышление детерминировано моей жизнью. Жить – значит представать перед чужими глазами в качестве живого (а не мертвого) существа. В этом отношении наши мысли, планы и надежды оказываются нерелевантными – релевантно лишь то, как наши тела перемещаются в пространстве под взглядом других. Теория знает меня лучше, чем я знаю себя сам. Надменный и просвещенный субъект философии исчез.
Я остался со своим телом, существование которого удостоверяется взглядом другого. В эпоху, предшествовавшую Просвещению, человек был объектом божественного взгляда. А теперь мы стали объектом взгляда критической теории.
Казалось бы, реабилитация профанного взгляда влечет за собой реабилитацию искусства: в искусстве человек становится образом, который доступен другому для созерцания и анализа. Но в действительности все не так просто. Предметом критики для современной теории служит не только философское созерцание, но и созерцание любого рода, включая эстетическое. С точки зрения критической теории мыслить или созерцать – все равно что быть мертвым.
В глазах другого неподвижное тело может быть только трупом. Если философия придавала привилегированное значение созерцанию, то теория предпочитает действие и практику – и ненавидит пассивность. Как только я прекращаю двигаться, я исчезаю с радара теории, что ей совсем не нравится. Любая постидеалистическая и атеистическая теория содержит в себе призыв к действию. Любая критическая теория утверждает необходимость совершения безотлагательных шагов. Она говорит нам: мы всего лишь смертные материальные организмы, и в нашем распоряжении мало времени. Так что нам некогда тратить его на созерцание. Мы должны жить здесь и сейчас. Время не ждет, поэтому нам нельзя медлить. Разумеется, любая теория предлагает определенное объяснение мира (или объяснение того, почему он не может быть объяснен), но эти теоретические объяснения и сценарии выполняют сугубо инструментальную и преходящую роль. Подлинная цель всякой теории – определить поле действия, которое нас призывают совершить.
В этом пункте теория демонстрирует свою солидарность со стилем нашей эпохи. В прежние времена отдых предполагал пассивное созерцание. В свободное время люди посещали театры и музеи или оставались дома, чтобы почитать книгу и посмотреть телевизор. Ги Дебор описал это положение вещей как общество спектакля – общество, в котором свобода приняла форму свободного времени, ассоциируемого с пассивностью и уходом от реальности и ее проблем. Но современное общество приняло совершенно другой характер. В свое свободное время люди работают – путешествуют, занимаются спортом, тренируются. Они не читают книг, но зато пишут в Facebook, Twitter и другие социальные сети. Они не смотрят искусство, но снимают фото и видео, которые потом рассылают своим друзьям и знакомым. Люди стали весьма активны. Они организуют свое свободное время, занимаясь различного вида трудом.
Эта активизация современного человека коррелирует с медиа, которые господствуют в наше время и которые оперируют движущимися изображениями (будь то кино или видео), так что мы не можем с их помощью репрезентировать движение мысли или состояние созерцания. Да и традиционные виды искусства тут бессильны; знаменитый «Мыслитель» Родена в действительности представляет собой атлета, отдыхающего после тренировки в спортзале.
Движение мысли является невидимым. Поэтому оно не может быть репрезентировано современной культурой, ориентированной на визуальную информацию. Следовательно, можно сказать, что призыв к действию, исходящий от теории, идеально согласуется с современной медиальной средой.
Но теория не просто призывает нас совершить какие угодно действия. Она призывает нас совершить такие действия, которые станут реализацией – и продолжением – самой теории. Любая критическая теория не только информативна, но и трансформативна. Она стремится вызвать изменения, которые выходят за рамки коммуникации. Коммуникация как таковая не влияет на субъектов коммуникативного обмена: я лишь передаю информацию другому, а другой передает информацию мне. Оба участника этого процесса сохраняют самоидентичность во время и после такого обмена. Но дискурс критической теории – это не просто информативный дискурс, поскольку он не ограничивается передачей определенного знания. Он ставит вопросы, касающиеся значения этого знания. Что означает получить некое новое знание? Как это новое знание трансформирует меня, как оно влияет на мое отношение к миру? Как это знание воздействует на мою личность, меняет мой образ жизни? Для ответа на эти вопросы необходимо привести теорию в действие – показать, как определенное знание трансформирует наше поведение. В этом отношении дискурс теории похож на дискурсы религии и философии. Религия описывает мир, но не довольствуется этой чисто дескриптивной функцией. Она призывает нас поверить в это описание и продемонстрировать свою веру, действуя в соответствии с ней. Точно так же и философия призывает нас не только поверить в силу разума, но и действовать разумно, рационально. А теперь теория хочет, чтобы мы не только поверили, что мы – это прежде всего бренные, живые тела, но и доказали нашу веру на деле. Нам недостаточно просто жить: необходимо продемонстрировать, что ты живешь, исполнить роль живого существа. Далее я попытаюсь показать, что в нашей культуре эту функцию демонстрации жизни выполняет искусство.
Действительно, главная цель искусства – демонстрировать различные образы и стили жизни. Таким образом, оно часто играет роль осуществленного на практике знания, показывая, что значит жить в соответствии с определенным знанием. Как известно, Кандинский объяснял свои абстрактные картины, ссылаясь на знание о переходе массы в энергию, происходящем согласно теории относительности Эйнштейна, и рассматривал свое искусство как реализацию этого знания на индивидуальном уровне. В совершенствовании жизни с помощью современных технологий видели свою задачу конструктивисты. Тематизированная марксизмом зависимость человеческого существования от экономики нашла отражение в русском авангарде. А в сюрреализме аналогичное значение приобрело бессознательное. Несколько позднее концептуализм тематизировал зависимость человеческого мышления и поведения от языка.
Конечно, можно спросить: кто является субъектом этой реализации знания посредством искусства? Мы много раз слышали о смерти субъекта и автора. Но во всех этих некрологах речь идет о субъекте философской рефлексии и саморефлексии, а также о субъекте желания и витальной энергии, в то время как перформативный субъект конституируется призывом действовать, продемонстрировать, что он – живое существо. Я выступаю как адресат этого призыва, говорящего мне: измени себя и мир, продемонстрируй свое знание, заяви о своей жизни и т. д. Этот призыв обращен ко мне. Поэтому я знаю, что могу и даже должен ответить на него.
Между тем призыв этот исходит не от Господа Бога. Теоретик – такой же человек, как и я, и у меня нет причин безоглядно доверять его намерениям. Как я уже говорил, Просвещение научило нас с недоверием относиться к взгляду другого – подозревать, что этот другой (священник или кто-либо иной) преследует собственные коварные планы, скрытые за фасадом его дискурса. А современная теория научила нас не доверять даже самим себе и доводам собственного разума. В этом смысле любое осуществление теории одновременно является осуществлением недоверия к ней. Мы воплощаем определенный имидж, определенный образ жизни, демонстрируя себя другим в качестве живущих, но в то же время мы скрываемся от дурного глаза теоретика, прячемся под оболочкой нашего имиджа. Собственно, именно этого и хочет от нас теория. В конце концов теория не доверяет даже самой себе. Как сказал Теодор Адорно, все в целом лжет – и не может быть ничего истинного во всеобщей лжи[2 - Т. Adorno. Minima Moraiia: Reflections from Damaged Life, trans. E.N. Jephcott, London: Verso, 1974, p. 39, 50.].
Здесь следует отметить, что художник может занять и другую позицию – встать на критическую позицию теории. Во многих случаях художники так и поступают, позиционируя себя в качестве распространителей и пропагандистов знания, а не в качестве тех, кто воплощает его на практике, задавшись вопросом о значении этого знания. Такие художники не столько действуют, сколько выражают свою солидарность с призывом изменить себя и мир. Вместо того чтобы воплощать теорию в действие, они побуждают к этому других; вместо того чтобы быть активными, они стараются активизировать других. Они занимают критическую позицию, поскольку теория критична по отношению ко всем, кто не отвечает на ее призыв. В данном случае искусство выполняет иллюстративную, дидактическую, образовательную функцию, сопоставимую с дидактической ролью искусства в контексте христианской культуры. Другими словами, художник занимается светской пропагандой, сравнимой с пропагандой религиозной. Я ничего не имею против этого поворота искусства в сторону пропаганды. В XX веке он породил множество интересных произведений и остается продуктивным по сей день. Однако художники, практикующие такого рода пропаганду, часто говорят о неэффективности искусства, словно оно обязано убедить тех, кого не убедила сама теория. Пропагандистское искусство не является само по себе безуспешным – просто оно разделяет успех и неудачи той теории, которую пропагандирует.
Эти две художественные установки – реализация теории и пропаганда теории – представляют собой не просто разные, но враждующие между собой, несовместимые интерпретации теории «призыва». На протяжении XX столетия эта несовместимость не раз становилась причиной трагических конфликтов на левом (да и на правом) фланге искусства и поэтому заслуживает внимательного обсуждения. Критическая теория, берущая начало в текстах Маркса и Ницше, рассматривает человека как конечное физическое тело, лишенное онтологического доступа к вечному и метафизическому. Следовательно, не существует онтологических, метафизических гарантий успеха какого бы то ни было человеческого начинания – как, впрочем, и гарантий его провала. Всякое действие человека может быть в любой момент прервано смертью. Событие смерти радикально гетерогенно по отношению к любой теологической концепции истории. С точки зрения критической теории смерть не идентична завершению. Конец света – это не обязательно апокалиптический финал, обнаруживающий смысл человеческого существования. Для нас жизнь лишена божественного или исторического плана, доступного нашему пониманию и позволяющего на него положиться. Мы считаем, что вовлечены в неконтролируемую игру материальных сил, которые делают возможным любой исход. Мы наблюдаем постоянное изменение моды. Мы видим необратимый прогресс технологий, из-за которого любой опыт в конечном счете неизбежно устаревает. И это побуждает нас постоянно отказываться от наших знаний, навыков и планов в тот момент, когда они кажутся нам устаревшими.
Мы понимаем, что все, с чем мы сталкиваемся, рано или поздно исчезнет. И мы готовы завтра отказаться от всего, что планируем сегодня.
Борис Гройс
Сборник статей философа и теоретика современного искусства Бориса Гройса составлен им самим из работ, вошедших в его книги Art Power (MIT Press, 2008) и Going Public (Sternberg Press, 2010), а также из статей, вышедших в американских и европейских журналах и каталогах.
Борис Гройс
Политика поэтики
Предисловие. Современное искусство как тотальность
Первое, что узнает читатель из большей части литературы о современном и модернистском искусстве, это то, что оба эти типа искусства (современное – в большей степени) радикально плюралистичны. Этот факт, казалось бы, совершенно исключает возможность описания искусства модернизма как определенного феномена, как результата коллективного труда нескольких поколений художников, кураторов и теоретиков – каким, например, представляется искусство Возрождения или Барокко. Невозможным также оказывается предъявить какое-либо произведение как абсолютно характерное, выражающее все тенденции модернистского искусства (тут я подразумеваю и современное искусство). На любой пример без труда можно найти другой, полностью ему противоречащий. Поэтому теоретики искусства оказываются изначально обреченными ограничивать свои интересы и концентрироваться на конкретных направлениях, школах, течениях, тенденциях или – что еще лучше – на работах отдельных художников. Единственный общий вывод о современном искусстве – это то, что обобщениям оно не поддается. Кругом одни различия. Приходится выбирать, принимать сторону тех или иных течений, формировать альянсы и смиряться с неизбежностью быть обвиненным в ограниченности или в рекламировании своих протеже в коммерческих интересах. Иначе говоря, плюрализм модернистского и современного искусства обессмысливает дискурс об искусстве. Самого этого факта достаточно, чтобы оспорить догму плюрализма.
Разумеется, каждое течение в искусстве провоцировало контртечение, каждая попытка сформулировать теоретическое определение искусства побуждала художников к созданию произведений, не подпадающих под это определение, и т. д. Если одни художники и критики полагали, что подлинное начало искусства лежит в субъективном самовыражении индивидуального художника, то другие требовали от искусства тематизации объективных, материальных условий его создания и распространения. В то время как одни художники настаивали на автономии искусства, другие – все более и более ангажировались политически. И на более тривиальном уровне – когда одни художники начинали создавать абстрактное искусство, другие становились ультрареалистами. Можно, следовательно, утверждать, что каждое произведение модернистского искусства задумывалось с целью противопоставить его так или иначе всем остальным уже существующим модернистским работам. Однако такое положение вещей отнюдь не означает, что модернистское искусство действительно плюралистично: ведь те работы, которые не задумывались как противопоставленные уже созданным, никогда не были признаны релевантными или подлинно модернистскими. Модернистское искусство функционировало не только как механизм включения всего того, что не воспринималось раньше как искусство, но и как механизм исключения всего того, что имитировало уже существующие художественные образцы в наивной, неотрефлектированной, неизощренной и неполемичной манере – то есть того, что не было спорным, провокативным, стимулирующим. Из этого следует: зона модернистского искусства далеко не плюралистична, она, напротив, четко структурирована согласно логике противоречий. Это зона, в которой заранее предполагается, что на любой тезис будет найден антитезис. В идеальном случае репрезентация как аргумента, так и контраргумента должна быть сбалансирована настолько, чтобы в сумме дать ноль. Модернистское искусство – продукт Возрождения, просвещенного атеизма и гуманизма. Смерть Бога означает, что ни одна из действующих в мире сил не может быть признана как господствующая над всеми остальными. Атеистичный, гуманистичный мир нового времени верит в баланс сил – и современное искусство является выражением этой веры. Вера в равновесие сил имеет регулирующий характер – благодаря этому современное искусство приобретает свою собственную социальную значимость и положение. Современное искусство предпочитает все, что устанавливает и поддерживает баланс сил, и стремится исключать все, что этот баланс может нарушить.
В прошлом искусство обычно стремилось представлять сторону абсолютной власти – будь то власть божественная или природная. Искусство как репрезентация подобной власти традиционно устанавливало собственный авторитет именно благодаря ей. В этом смысле искусство всегда было непосредственно или косвенно критично, поскольку конечной, политической, власти оно противопоставляло образы власти бесконечной – Бога, природы, судьбы, жизни, смерти. Сегодня государство также утверждает, что поддержание баланса сил – его абсолютная цель. Этой цели оно, конечно, никогда не достигнет. Можно утверждать, что современное искусство как целое стремится предложить картину утопического равновесия сил, превосходящую несовершенную государственную модель распределения власти. Гегель, первым описавший равновесие сил как основной принцип, нашедший свое воплощение в современном государстве, полагал, что в наше время искусство перестало быть релевантным. Иначе говоря, он не предполагал, что баланс сил можно представить с помощью образов. Он считал, что равновесие сил, в сумме дающее ноль, может быть только помыслено, но не увидено, что оно существует только для разума, но не для глаза. Однако современное искусство продемонстрировало, что ноль, как и идеальное равновесие сил, возможно манифестировать визуально.
Если не существует образа, который мог бы функционировать как репрезентация бесконечной власти, то все образы равноценны. И действительно, целью современного искусства является равенство всех образов. Но равнозначность всех изображений превосходит плюралистическую, демократическую равнозначность эстетических вкусов. Иначе говоря, всегда существует бесконечный избыток возможных образов, не соответствующих никакому вкусу, будь то вкус индивидуальный, высокий, маргинальный или массовый. Поэтому всегда можно обратиться к этому избытку невостребованных образов – и это именно то, чем занимается современное искусство. Уже Малевич утверждал, что он борется против искренности в художнике. Бродтхерс говорил, что он начал заниматься искусством, потому что захотел сделать что-то неискренное. Быть неискренним означает – в этом контексте – создавать искусство, не апеллирующее к какому-либо конкретному вкусу, включая свой собственный. Здесь идет речь об избытке плюралистической демократии, избытке демократического равенства. Подобный избыток одновременно стабилизирует и дестабилизирует демократическое равновесие вкуса и власти. Это тот парадокс, который реализуется современным искусством.
И не только искусство в целом можно рассматривать как воплощение парадокса. Уже в рамках классического модернизма, но в особенности в контексте современного искусства отдельные произведения стали парадоксальными предметами, вмещающими в себя как тезис, так и антитезис. Например, «Фонтан» Дюшана является и не является произведением искусства в одно и то же время, «Черный квадрат» Малевича – одновременно и геометрическая фигура, и картина. Художественное воплощение противоречия, парадокса вошло в практику современного искусства после Второй мировой войны. Картины этого периода можно рассматривать и как реалистические, и как абстрактные (Герхард Рихтер), объекты – как традиционные скульптуры и как редимейды (Фишли / Вайсс). Мы также сталкиваемся с работами, которые стремятся быть как документальными, так и фиктивными, и с художественными интервенциями, которые стремятся быть политическими в том смысле, что хотят преодолеть границы арт-системы, оставаясь при этом внутри нее. Кажется, что число таких парадоксов и произведений современного искусства, воплощающих их, может быть произвольно увеличено. Эти произведения искусства могут вызвать видимость того, что они потенциально способны спровоцировать в зрителе бесконечное множество интерпретаций, что их значение является открытым, что они не навязывают зрителю никакой конкретной идеологии, теории или веры.
Но эта видимость бесконечного плюрализма является, разумеется, лишь иллюзией. В действительности существует только одна правильная интерпретация, которая и навязывается зрителю: как предметы-парадоксы эти произведения искусства требуют идеально парадоксальной, самопротиворечивой реакции. Любую непарадоксальную или лишь отчасти парадоксальную реакцию следует в этом случае рассматривать как неполную или целиком ошибочную. Единственной адекватной интерпретацией парадокса является парадоксальная интерпретация.
Так, серьезная помеха нашему пониманию модернистского искусства состоит в нежелании принять как удовлетворительные и верные парадоксальные, самопротиворечащие интерпретации. Но это сопротивление необходимо преодолеть, чтобы мы могли увидеть модернистское и современное искусство в правильном свете, а именно – как обнаружение парадокса, управляющего равновесием власти.
В действительности быть предметом-парадоксом – нормативное требование, имплицитно относящееся к любому произведению современного искусства. Последнее лишь настолько ценно, насколько интересен воплощаемый им парадокс, насколько оно дополняет и поддерживает идеальное равновесие сил между тезисом и антитезисом.
В этом смысле даже самые радикально односторонние произведения могут рассматриваться как достойные интереса, если они могут помочь вернуть нарушенное равновесие в сфере искусства в целом.
Односторонность и агрессивность, разумеется, столь же значимые составляющие модернизма, как и стремление к уравновешенности и поддержанию баланса сил. Современные революционные или, можно сказать, тоталитарные движения и государства также ориентируются на равновесие власти, но в их случае это стремление основано на вере в то, что подобный баланс может быть достигнут исключительно путем перманентной борьбы, конфликтов и войн. Искусство, поставленное на службу подобному динамичному, революционному балансу власти, неизбежно принимает форму политической пропаганды. Такое искусство не ограничивается репрезентацией власти – оно принимает участие в борьбе за власть, в борьбе, понимаемой им как единственный способ, которым может быть поддержано истинное силовое равновесие. Я должен признаться, что мои собственные статьи, собранные в этом издании, также спровоцированы желанием внести некоторое равновесие в распределение сил в сегодняшнем мире искусства, а именно – выделить в нем пространство для искусства пропагандистского.
В современных условиях искусство может быть создано и представлено публике одним из двух способов: либо как предмет потребления, либо как политическая пропаганда. В каждом из этих двух режимов создается приблизительно одинаковое количество искусства. Но в современном контексте история коммерческого искусства привлекает значительно больше внимания, чем история искусства как средства пропаганды. Официальное, как и неофициальное искусство Советского Союза и прочих социалистических стран совершенно не попадает в сферу внимания историков современного искусства и музейной системы. То же можно сказать и о западноевропейском искусстве, финансируемом и распространяемом западными коммунистическими партиями, в особенности – французской. Единственным исключением является искусство русских конструктивистов, возникшее во время НЭПа, когда в Советской России был временно введен, хотя и в ограниченном виде, свободный рынок. Естественно, что такое пренебрежение политическим искусством, созданным вне стандартных условий рынка, имеет определенные причины. После окончания Второй мировой войны, и в особенности после смены режима в бывших социалистических странах Восточной Европы, коммерческая система создания и распространения искусства стала господствовать над политически мотивированным искусством. Понятие искусства стало почти синонимом понятия художественного рынка, так что работы, созданные вне рыночных условий, фактически исключались из сферы институционально признанного искусства. Подобная политика исключения, как правило, находит моралистическое оправдание: критиков тревожит этическая сторона интереса к тоталитарному искусству, которое якобы извратило истинные политические цели настоящего утопического искусства. (Это понятие извращенного искусства, противопоставляемого настоящему искусству, естественно, очень проблематично. Любопытно, что подобная терминология регулярно используется авторами, которые в ином контексте всегда стараются избегать понятия «извращение»). Интересно также и то, что даже самое строгое осуждение свободного рынка с моральных позиций никогда и никого не приводит к заключению, что искусство, созданное и по-прежнему создаваемое в рыночных условиях, необходимо исключить из критического и исторического рассмотрения. Кстати, для такого типа мышления характерно не принимать во внимание не только официальное, но и неофициальное (морально корректное), диссидентское советское искусство.
Но что бы ни думать о моральной стороне нерыночного тоталитарного искусства, она не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Репрезентация этого политически мотивированного искусства в художественных институциях не имеет ничего общего с вопросом о его моральной и эстетической ценности – так, никому не пришло бы в голову спрашивать о том, хорош или нет «Фонтан» Дюшана с моральной и эстетической стороны. В качестве редимейдов коммерческие товары получили неограниченный доступ к миру искусства, продолжающего исключать политическую пропаганду. Таким образом был нарушен баланс сил между экономикой и политикой в искусстве. Нельзя не заподозрить, что исключение искусства, не созданного в стандартных условиях рынка, имеет под собой лишь одно основание: доминирующий арт-дискурс отождествляет искусство с арт-рынком и не хочет принимать во внимание искусство, созданное и получившее распространение при любых иных условиях.
Важно отметить то, что подобное понимание искусства разделяется большинством художников и теоретиков, которые стараются культивировать критическое отношение к коммодификации искусства, то есть превращению его в товар, и требуют от самого искусства рефлексивного и критического отношения к этому процессу. Но рассмотрение критики коммодификации как основной, центральной или даже исключительной задачи современного искусства ведет лишь к утверждению тотальной власти арт-рынка – даже в том случае, когда это утверждение принимает форму критики. Искусство, рассматриваемое в этой перспективе, оказывается абсолютно бессильным, лишенным каких-либо имманентных критериев выбора и имманентной логики развития. Согласно этому типу анализа, сфера искусства полностью подчинена коммерческим интересам, которые диктуют в последней инстанции критерии исключения или включения произведений. Само искусство при этом представляется неким неудачным предметом коммерческого потребления, полностью подчиненным власти рынка и отличающимся от всех остальных товаров лишь своей потенциальной возможностью превратиться в критический или даже самокритичный товар. Понятие самокритичного товара, разумеется, глубоко парадоксально. В то же время, будучи парадоксальным предметом, самокритичное произведение искусства идеально помещается в доминирующую парадигму современного искусства. Изнутри этой парадигмы совершенно невозможно возразить против такого искусства – но возникает вопрос о том, можно ли рассматривать подобное искусство как действительно политическое.
Разумеется, каждого, кто как-либо причастен к искусству и критике, интересуют эти вопросы: кому решать, что является искусством, а что нет; более того, что считать хорошим искусством, а что – плохим? Художнику, арт-критику, куратору, коллекционеру, арт-системе в целом, рынку искусства, широкой публике? На мой взгляд, этот несомненно интригующий вопрос все же задан ошибочно. Кто бы ни принимал решения, касающиеся рынка искусства, он все же может оказаться не прав; широкая публика также способна допускать ошибки и допускала их в течение всей истории искусства. Не стоит забывать, что все искусство авангарда создавалось как протест против общественного вкуса – тогда (и в особенности тогда), когда оно создавалось во имя его самого. Из этого следует: демократизация аудитории – не решение проблемы. И просвещение зрителя также не является ответом, потому что все стоящее искусство всегда создавалось и продолжает создаваться вопреки каким-либо привитым, культивированным вкусам. Критика существующего рынка искусства и институций, безусловно, правомерна и необходима, однако она имеет значение только тогда, когда ее целью является привлечение нашего внимания к интересному и релевантному искусству, не замеченному этими институциями. И, как нам всем хорошо известно, когда подобная критика оказывается успешной, она приводит к апроприации недооцененного искусства этими институциями и тем самым – к их дальнейшей стабилизации. Критика рынка искусства изнутри способна улучшить его, но не приводит ни к каким фундаментальным его изменениям.
Искусство становится политически эффективным только тогда, когда оно создается вне рынка искусства, в контексте непосредственной политической пропаганды. Такое искусство создавалось в бывших социалистических странах. Современные примеры включают исламистские видео, a также плакаты, функционирующие в контексте современного антиглобалистского движения. Естественно, подобное искусство финансируется либо государством, либо различными политическими и религиозными движениями. Но его производство, оценка и распространение не следуют логике художественного рынка. Такое искусство не является товаром потребления. Особенно в условиях социалистической экономики советского типа произведения искусства никак не могли быть товаром, поскольку не существовало рынка как такового. Это искусство создавалось не для индивидуальных потребителей, гипотетических покупателей, но для масс, поглощающих и усваивающих его идеологическое содержание.
Конечно, можно с легкостью утверждать, что такое пропагандистское искусство является просто-напросто политическим дизайном.
И это означает, что в контексте политической пропаганды искусство остается таким же безвластным, как и в контексте рынка искусства. Такое утверждение является одновременно и верным, и ошибочным. Разумеется, художники, работающие в контексте пропагандистского искусства, не являются, выражаясь языком современного менеджмента, поставщиками контента. Они создают рекламу в определенных политических целях, которым и подчинено их искусство. Но что же это собственно за цель? Любая идеология базируется на некоем видении, на некоторой картине будущего – будь то образ рая, коммунистического общества или перманентной революции. И это то, что обозначает фундаментальное различие между рыночными товарами и политической пропагандой. Рынок, направляемый невидимой рукой, не может быть визуализирован: образы в нем циркулируют, но сам по себе он образом не обладает. Идеологическая же власть, напротив, всегда является властью, основанной на видении. И это означает, что, служа какой-либо политической или религиозной идеологии, художник непременно служит искусству. Именно поэтому он может противостоять режиму, основанному на идеологическом видении, гораздо более эффективно, чем противостоять рынку искусства. Художник работает на той же территории, что и идеология. Творческий и критический потенциал искусства проявляет себя поэтому гораздо сильнее в политическом, нежели в рыночном контексте.
В то же время искусство в идеологическом режиме остается предметом-парадоксом. Иначе говоря, любое идеологическое видение – всего лишь картина, образ желанного будущего. Материализация, воплощение же этого образа всегда неизбежно откладывается – до апокалиптического конца истории или до наступления общества будущего. Однако любое идеологически мотивированное искусство неизбежно порывает с политикой отсрочки, ибо искусство всегда создается здесь и сейчас. Естественно, идеологически мотивированное искусство всегда можно интерпретировать как прообраз будущего. Но его можно одновременно расценивать и как пародию на будущее и критику будущего, как доказательство того, что в мире ничего не изменится, даже если идеология будет воплощена в жизнь. Замена идеологического визионерства искусством является замещением священного времени бесконечной надежды профанным временем архивов и исторической памяти. После того как вера в заветные видения утеряна, все что остается – это искусство. Это означает, что все идеологически мотивированное искусство – будь то религиозное, коммунистическое или фашистское – непременно является и позитивным, и критичным одновременно. Любая реализация какого-либо проекта – религиозного, идеологического или технического – всегда является отрицанием этого проекта именно как проекта. Любое искусство, воплощающее видение будущего, на которое направлена определенная религиозная либо политическая идеология, профанирует эту идеологию и тем самым становится предметом-парадоксом.
Стоит отметить, что идеологически мотивированное искусство не принадлежит исключительно прошлому или маргинальным политическим движениям. Мейнстримное западное искусство сегодня все более и более функционирует в модальности политической пропаганды. Это искусство также создается и выставляется для массового зрителя, который совсем не обязательно планирует его приобрести.
В действительности «непокупатели» составляют подавляющую и все увеличивающуюся аудиторию искусства, выставляемого на регулярно организуемых международных биеннале, триеннале и т. п. Было бы ошибочным думать, что эти выставки существуют исключительно для самопрезентации и прославления ценностей артрынка. Скорее они каждый раз создают и демонстрируют равновесие сил между противоречащими друг другу тенденциями, эстетическими подходами и репрезентационными стратегиями, чтобы представить идеализированный образ подобного баланса.
Борьба против власти идеологии традиционно принимала форму борьбы против власти изображений. Антиидеологическая, критическая, просвещенческая мысль всегда стремилась избавиться от изображений, уничтожить или по меньшей мере деконструировать их с целью поставить на их место чисто рациональные понятия. Положение Гегеля о том, что искусство – дело прошлого, тогда как новое время – это эпоха Понятия, было провозглашением победы иконоборческого Просвещения над христианской иконофилией. Разумеется, диагноз Гегеля был правильным для своего времени, но он не предвидел возможности возникновения концептуального искусства. Модернистское искусство неоднократно демонстрировало свою способность апроприировать направленные против него иконокластические жесты и обращать их в новые модели создания искусства. Современное произведение искусства позиционирует себя как предмет-парадокс – как изображение и его критика одновременно.
Это гарантировало выживание искусства в условиях радикальной секуляризации и деидеологизации. Наше время, часто считаемое постидеологическим, также обладает своим образом – им стала престижная международная выставка, выражающая идеальное равновесие сил. Желание избавиться от любого изображения может быть реализовано исключительно с помощью образа – образа критики изображения. Эта фундаментальная фигура – художественная апроприация иконоборчества, создающая предметы-парадоксы, которые мы называем работами современного искусства, – основная тема, непосредственно или косвенно затронутая в статьях, собранных в этой книге.
Под взглядом теории
С момента своего возникновения современное искусство постоянно демонстрировало зависимость от теории. В то время голод по теории, который Арнольд Гелен позже назвал «потребностью в комментарии», объясняли тем, что модернистское искусство слишком «сложно» и потому непонятно широкой публике[1 - A. Gehlen. Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Aesthetik der modernen Malerei, Frankfurt: Athenaeum, 1960.]. Согласно этому взгляду, теория берет на себя роль пропаганды – или скорее рекламы: после того как произведение искусства создано, приходит теоретик и объясняет это произведение изумленной и недоверчивой публике. Как мы знаем, многие художники испытывают смешанные чувства по поводу теоретической легитимации собственного искусства. Они благодарны теоретику за его энтузиазм, но их раздражает тот факт, что их искусство предстает перед публикой в определенной теоретической перспективе, которая часто кажется им слишком узкой, догматичной и даже отпугивающей. Художник стремится к расширению своей аудитории, в то время как число теоретически информированных зрителей весьма невелико – даже меньше, чем аудитория современного искусства. Таким образом, теоретический дискурс оказывается формой антирекламы: вместо того чтобы расширять аудиторию, он ее сужает. И сейчас это даже более верно, чем раньше. Со времен раннего модернизма широкая публика более или менее смирилась с искусством своего времени. Сегодня публика признает современное искусство, даже не испытывая ощущения, что «понимает» его. Кажется, что необходимость теоретического объяснения искусства окончательно отпала.
Однако в действительности теория никогда не была столь важна для искусства, как сегодня. В чем же причина? Я бы предположил, что современные художники нуждаются в теории, чтобы объяснить, что они делают, не публике, а самим себе. В этом отношении они не одиноки. Любой современный человек постоянно задает себе два вопроса. Во-первых, что делать? А во-вторых (и этот второй вопрос еще важнее), как объяснить самому себе то, что ты уже делаешь? Настоятельность этих вопросов есть результат переживаемого нами острого кризиса традиции. Возьмем, например, искусство. В прежние времена заниматься искусством означало делать то, что делали предыдущие поколения художников, пусть даже формы художественной практики постоянно менялись. В новую эпоху заниматься искусством означало протестовать против всего, что делали предыдущие поколения. В обоих случаях было более или менее ясно, что представляет собой традиция и, соответственно, какую форму может принимать протест против нее. Сегодня мы имеем тысячи традиций, циркулирующих по всему миру, и тысячи различных форм протеста против них. Таким образом, тому, кто в наши дни хочет стать художником и создавать искусство, далеко не очевидно, что такое искусство и что он должен делать. Ему необходима теория, которая объяснит, что такое искусство. И такая теория дает художнику возможность для универсализации, глобализации своего искусства. Теория освобождает художника от его культурной идентичности – от опасности, что его произведения будут поняты как местный курьез. Она открывает перед искусством перспективу универсальности. Вот главная причина успеха теории в нашем глобализованном мире. В этом смысле теория предшествует художественной практике, а не следует за ней.
Однако здесь остается нерешенным следующий вопрос. Из того, что любая деятельность в наше время начинается с ее теоретического обоснования, можно сделать вывод, что мы живем в эпоху после конца искусства, поскольку искусство традиционно противопоставляется рассудку, рациональности, логике и помещается в область иррационального, эмоционального, теоретически непредсказуемого и необъяснимого.
Действительно, западная философия с самого своего начала была максимально критически настроена по отношению к искусству и отвергала его как машину по производству иллюзий и фикций. Так, для Платона понимание мира и его истины достижимо не на пути воображения, а исключительно на пути разума. Сфера разума традиционно включает в себя логику, математику, мораль и гражданское право, идеи добра и зла, систему управления государством – все методы и техники, на которых базируется общество. Эти идеи могут быть постигнуты человеческим разумом, но их невозможно репрезентировать средствами искусства, поскольку они невидимы. Таким образом, предполагалось, что философ отрешается от внешнего, феноменального мира и обращается к внутренней реальности собственного мышления, с тем чтобы исследовать это мышление и проанализировать его логику. Только таким способом философ достигал уровня разума как универсального модуса мышления, присущего всем разумным субъектам, включая, как говорил Эдмунд Гуссерль, богов, ангелов, демонов и людей. Следовательно, отрицание искусства может рассматриваться как принципиальный момент, конституирующий философию как таковую. Оппозиция между философией, понимаемой как любовь к истине, и искусством как производством лжи и иллюзий определяет всю историю западной культуры. Негативное отношение философии к искусству усугублялось из-за традиционного альянса между искусством и религией. Искусство функционировало как дидактический медиум, репрезентирующий трансцендентную, непостижимую, иррациональную власть религии: оно показывало богов и Бога, делая их доступными для человеческого глаза. Религиозное искусство представляло собой предмет веры – люди верили, что храмы, статуи, иконы, религиозные поэмы и ритуальные представления суть зоны божественного присутствия. Когда Гегель в 1820-е годы заявлял, что искусство есть дело прошлого, он имел в виду, что оно перестало быть медиумом (религиозной) истины. После эпохи Просвещения никто уже не обманывался насчет искусства: рациональная очевидность окончательно заместила эстетическое обольщение. Философия научила нас не доверять искусству и религии и вместо этого верить собственному разуму. Человек эпохи Просвещения презирает искусство, доверяя только самому себе, доводам собственного рассудка.
Однако современная критическая теория есть не что иное, как критика рассудка, рациональности и традиционной логики. Я имею в виду не просто ту или иную конкретную теорию, а критическое мышление в целом, которое берет начало во второй половине XIX века, в период упадка гегелевской философии.
Всем нам известны имена первых мыслителей, определивших новую эпоху. Карл Маркс положил начало современному критическому дискурсу, интерпретировав автономию разума как иллюзию, порожденную классовой структурой традиционных обществ, включая буржуазное общество. Субъект, выступающий от имени разума, понимался Марксом как представитель господствующего класса, освобожденный от физического труда и необходимости принимать участие в экономической деятельности. По Марксу, философ может отрешиться от мирских соблазнов лишь потому, что его базовые потребности уже удовлетворены, в то время как неимущие представители физического труда поглощены борьбой за выживание, не оставляющей им возможности предаваться незаинтересованному философскому созерцанию и воплощать собой чистый разум.
С другой стороны, Ницше объяснял философскую любовь к разуму и истине как симптом неспособности философа реализовать свою волю к власти в реальной жизни. Волю к истине он рассматривал как результат сверхкомпенсации недостатка витальности и реальной власти, заменой которым служат фантазии философа об универсальной власти разума. Философ наделен иммунитетом против соблазнов искусства просто потому, что он слишком слаб и немощен, чтобы соблазнять и быть соблазненным. Ницше отрицал мирный, чисто созерцательный характер философской установки. С его точки зрения, такая установка – всего лишь уловка, к которой прибегает слабый для достижения успеха в борьбе за власть и господство. За мнимой «незаинтересованностью» теоретика кроется «декадентская», «больная» разновидность воли к власти. Согласно Ницше, подлинной целью разума со всем его философским инструментарием является порабощение тех, чья воля к власти носит нефилософский, витальный, пассионарный характер. Впоследствии эту главную тему философии Ницше развивал Мишель Фуко.
Таким образом, первые теоретики описали фигуру философа и его позицию в мире с точки зрения обычного, профанного, внешнего наблюдателя. Теория рассматривает тело философа в таких аспектах его существования, которые недоступны для саморефлексии. Это то, что ускользает от взгляда философа, равно как и от взгляда любого субъекта: мы не можем видеть собственное тело, его положение в мире и материальные процессы (физические и химические, а также экономические, биополитические, сексуальные и т. д.), протекающие внутри и вокруг него. Это значит, что мы не в состоянии осуществлять рефлексию в духе философского предписания «познать самого себя». А что еще важнее, мы не можем приобрести внутренний опыт границ нашего временного и телесного бытия. Нам не дано увидеть собственное рождение и собственную смерть. Поэтому все философы, практиковавшие саморефлексию, приходили к выводу, что дух и разум бессмертны. Действительно, анализируя процесс своего мышления, я не нахожу никаких свидетельств его конечности. Для обнаружения границ своего существования я нуждаюсь во взгляде другого. В его глазах я читаю собственную смерть. Вот почему Лакан говорит, что глаз другого – это всегда дурной глаз, а для Сартра «ад – это другие». Только профанный взгляд другого дает мне понять, что я не только мыслю и чувствую, но что я также родился, живу и умру.
«Мыслю, следовательно, существую», – сказал Декарт. Но внешний наблюдатель, стоящий на позиции критической теории, мог бы сказать о Декарте: он мыслит, потому что существует. И это в корне подрывает мое знание о себе. Возможно, я знаю то, что мыслю. Но я не знаю, как я живу – я даже не знаю, что я жив. Поскольку я лишен опыта собственной смерти, я не могу знать себя как живущего. Мне следует спросить других, живу ли я и как я живу – следовательно, я должен также спросить у них, что в действительности я думаю, поскольку мое мышление детерминировано моей жизнью. Жить – значит представать перед чужими глазами в качестве живого (а не мертвого) существа. В этом отношении наши мысли, планы и надежды оказываются нерелевантными – релевантно лишь то, как наши тела перемещаются в пространстве под взглядом других. Теория знает меня лучше, чем я знаю себя сам. Надменный и просвещенный субъект философии исчез.
Я остался со своим телом, существование которого удостоверяется взглядом другого. В эпоху, предшествовавшую Просвещению, человек был объектом божественного взгляда. А теперь мы стали объектом взгляда критической теории.
Казалось бы, реабилитация профанного взгляда влечет за собой реабилитацию искусства: в искусстве человек становится образом, который доступен другому для созерцания и анализа. Но в действительности все не так просто. Предметом критики для современной теории служит не только философское созерцание, но и созерцание любого рода, включая эстетическое. С точки зрения критической теории мыслить или созерцать – все равно что быть мертвым.
В глазах другого неподвижное тело может быть только трупом. Если философия придавала привилегированное значение созерцанию, то теория предпочитает действие и практику – и ненавидит пассивность. Как только я прекращаю двигаться, я исчезаю с радара теории, что ей совсем не нравится. Любая постидеалистическая и атеистическая теория содержит в себе призыв к действию. Любая критическая теория утверждает необходимость совершения безотлагательных шагов. Она говорит нам: мы всего лишь смертные материальные организмы, и в нашем распоряжении мало времени. Так что нам некогда тратить его на созерцание. Мы должны жить здесь и сейчас. Время не ждет, поэтому нам нельзя медлить. Разумеется, любая теория предлагает определенное объяснение мира (или объяснение того, почему он не может быть объяснен), но эти теоретические объяснения и сценарии выполняют сугубо инструментальную и преходящую роль. Подлинная цель всякой теории – определить поле действия, которое нас призывают совершить.
В этом пункте теория демонстрирует свою солидарность со стилем нашей эпохи. В прежние времена отдых предполагал пассивное созерцание. В свободное время люди посещали театры и музеи или оставались дома, чтобы почитать книгу и посмотреть телевизор. Ги Дебор описал это положение вещей как общество спектакля – общество, в котором свобода приняла форму свободного времени, ассоциируемого с пассивностью и уходом от реальности и ее проблем. Но современное общество приняло совершенно другой характер. В свое свободное время люди работают – путешествуют, занимаются спортом, тренируются. Они не читают книг, но зато пишут в Facebook, Twitter и другие социальные сети. Они не смотрят искусство, но снимают фото и видео, которые потом рассылают своим друзьям и знакомым. Люди стали весьма активны. Они организуют свое свободное время, занимаясь различного вида трудом.
Эта активизация современного человека коррелирует с медиа, которые господствуют в наше время и которые оперируют движущимися изображениями (будь то кино или видео), так что мы не можем с их помощью репрезентировать движение мысли или состояние созерцания. Да и традиционные виды искусства тут бессильны; знаменитый «Мыслитель» Родена в действительности представляет собой атлета, отдыхающего после тренировки в спортзале.
Движение мысли является невидимым. Поэтому оно не может быть репрезентировано современной культурой, ориентированной на визуальную информацию. Следовательно, можно сказать, что призыв к действию, исходящий от теории, идеально согласуется с современной медиальной средой.
Но теория не просто призывает нас совершить какие угодно действия. Она призывает нас совершить такие действия, которые станут реализацией – и продолжением – самой теории. Любая критическая теория не только информативна, но и трансформативна. Она стремится вызвать изменения, которые выходят за рамки коммуникации. Коммуникация как таковая не влияет на субъектов коммуникативного обмена: я лишь передаю информацию другому, а другой передает информацию мне. Оба участника этого процесса сохраняют самоидентичность во время и после такого обмена. Но дискурс критической теории – это не просто информативный дискурс, поскольку он не ограничивается передачей определенного знания. Он ставит вопросы, касающиеся значения этого знания. Что означает получить некое новое знание? Как это новое знание трансформирует меня, как оно влияет на мое отношение к миру? Как это знание воздействует на мою личность, меняет мой образ жизни? Для ответа на эти вопросы необходимо привести теорию в действие – показать, как определенное знание трансформирует наше поведение. В этом отношении дискурс теории похож на дискурсы религии и философии. Религия описывает мир, но не довольствуется этой чисто дескриптивной функцией. Она призывает нас поверить в это описание и продемонстрировать свою веру, действуя в соответствии с ней. Точно так же и философия призывает нас не только поверить в силу разума, но и действовать разумно, рационально. А теперь теория хочет, чтобы мы не только поверили, что мы – это прежде всего бренные, живые тела, но и доказали нашу веру на деле. Нам недостаточно просто жить: необходимо продемонстрировать, что ты живешь, исполнить роль живого существа. Далее я попытаюсь показать, что в нашей культуре эту функцию демонстрации жизни выполняет искусство.
Действительно, главная цель искусства – демонстрировать различные образы и стили жизни. Таким образом, оно часто играет роль осуществленного на практике знания, показывая, что значит жить в соответствии с определенным знанием. Как известно, Кандинский объяснял свои абстрактные картины, ссылаясь на знание о переходе массы в энергию, происходящем согласно теории относительности Эйнштейна, и рассматривал свое искусство как реализацию этого знания на индивидуальном уровне. В совершенствовании жизни с помощью современных технологий видели свою задачу конструктивисты. Тематизированная марксизмом зависимость человеческого существования от экономики нашла отражение в русском авангарде. А в сюрреализме аналогичное значение приобрело бессознательное. Несколько позднее концептуализм тематизировал зависимость человеческого мышления и поведения от языка.
Конечно, можно спросить: кто является субъектом этой реализации знания посредством искусства? Мы много раз слышали о смерти субъекта и автора. Но во всех этих некрологах речь идет о субъекте философской рефлексии и саморефлексии, а также о субъекте желания и витальной энергии, в то время как перформативный субъект конституируется призывом действовать, продемонстрировать, что он – живое существо. Я выступаю как адресат этого призыва, говорящего мне: измени себя и мир, продемонстрируй свое знание, заяви о своей жизни и т. д. Этот призыв обращен ко мне. Поэтому я знаю, что могу и даже должен ответить на него.
Между тем призыв этот исходит не от Господа Бога. Теоретик – такой же человек, как и я, и у меня нет причин безоглядно доверять его намерениям. Как я уже говорил, Просвещение научило нас с недоверием относиться к взгляду другого – подозревать, что этот другой (священник или кто-либо иной) преследует собственные коварные планы, скрытые за фасадом его дискурса. А современная теория научила нас не доверять даже самим себе и доводам собственного разума. В этом смысле любое осуществление теории одновременно является осуществлением недоверия к ней. Мы воплощаем определенный имидж, определенный образ жизни, демонстрируя себя другим в качестве живущих, но в то же время мы скрываемся от дурного глаза теоретика, прячемся под оболочкой нашего имиджа. Собственно, именно этого и хочет от нас теория. В конце концов теория не доверяет даже самой себе. Как сказал Теодор Адорно, все в целом лжет – и не может быть ничего истинного во всеобщей лжи[2 - Т. Adorno. Minima Moraiia: Reflections from Damaged Life, trans. E.N. Jephcott, London: Verso, 1974, p. 39, 50.].
Здесь следует отметить, что художник может занять и другую позицию – встать на критическую позицию теории. Во многих случаях художники так и поступают, позиционируя себя в качестве распространителей и пропагандистов знания, а не в качестве тех, кто воплощает его на практике, задавшись вопросом о значении этого знания. Такие художники не столько действуют, сколько выражают свою солидарность с призывом изменить себя и мир. Вместо того чтобы воплощать теорию в действие, они побуждают к этому других; вместо того чтобы быть активными, они стараются активизировать других. Они занимают критическую позицию, поскольку теория критична по отношению ко всем, кто не отвечает на ее призыв. В данном случае искусство выполняет иллюстративную, дидактическую, образовательную функцию, сопоставимую с дидактической ролью искусства в контексте христианской культуры. Другими словами, художник занимается светской пропагандой, сравнимой с пропагандой религиозной. Я ничего не имею против этого поворота искусства в сторону пропаганды. В XX веке он породил множество интересных произведений и остается продуктивным по сей день. Однако художники, практикующие такого рода пропаганду, часто говорят о неэффективности искусства, словно оно обязано убедить тех, кого не убедила сама теория. Пропагандистское искусство не является само по себе безуспешным – просто оно разделяет успех и неудачи той теории, которую пропагандирует.
Эти две художественные установки – реализация теории и пропаганда теории – представляют собой не просто разные, но враждующие между собой, несовместимые интерпретации теории «призыва». На протяжении XX столетия эта несовместимость не раз становилась причиной трагических конфликтов на левом (да и на правом) фланге искусства и поэтому заслуживает внимательного обсуждения. Критическая теория, берущая начало в текстах Маркса и Ницше, рассматривает человека как конечное физическое тело, лишенное онтологического доступа к вечному и метафизическому. Следовательно, не существует онтологических, метафизических гарантий успеха какого бы то ни было человеческого начинания – как, впрочем, и гарантий его провала. Всякое действие человека может быть в любой момент прервано смертью. Событие смерти радикально гетерогенно по отношению к любой теологической концепции истории. С точки зрения критической теории смерть не идентична завершению. Конец света – это не обязательно апокалиптический финал, обнаруживающий смысл человеческого существования. Для нас жизнь лишена божественного или исторического плана, доступного нашему пониманию и позволяющего на него положиться. Мы считаем, что вовлечены в неконтролируемую игру материальных сил, которые делают возможным любой исход. Мы наблюдаем постоянное изменение моды. Мы видим необратимый прогресс технологий, из-за которого любой опыт в конечном счете неизбежно устаревает. И это побуждает нас постоянно отказываться от наших знаний, навыков и планов в тот момент, когда они кажутся нам устаревшими.
Мы понимаем, что все, с чем мы сталкиваемся, рано или поздно исчезнет. И мы готовы завтра отказаться от всего, что планируем сегодня.