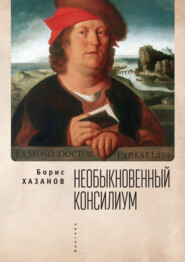По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Подвиг Искариота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Вы заговорили о любви – вот как!»
«В этом слове – два смысла, и один смысл может уничтожить другой. Вы будете смеяться, но любовь, настоящая любовь, которая всегда включает в себя преклонение перед тем, кого любишь, благоговение, что ли… такая любовь в самом деле может сделать человека на какое-то время импотентом».
«Это я поняла из вашего рассказа. Вы пережили эту любовь, вы не можете её забыть, она измучила вас, оттого вы и предпочли любовь без любви. Я вам рассказала, как повёл себя мой муж в нашу первую ночь. Как видите, я тоже не могу позабыть эту историю».
Женщина остановилась.
«В чём дело?»
«Я думаю, – проговорила она, – что наша с вами история закончилась, даже не начавшись».
Наша история началась после того, как она закончилась, хотел он сказать – и тоже остановился.
Купидон
Ага, вскричал он, я же говорил! Мы на верном пути. В сумраке лесную тропу пересекала просёлочная дорога, виднелись колеи; вопрос был только в том, куда повернуть, направо или налево. Я думаю – куда зашло солнце, сказала спутница, по-моему, железная дорога находится на западе. Собирается ли она вернуться в город, спросил он. Визг плохо смазанных колёс вывел их из недоумения. Из-за поворота показался экипаж, лошадь кивала большой головой. Сидя боком, ехал мужичок на телеге, маленький, как ребёнок, свесив ноги в больших сапогах.
«Эй, дядя», – сказал, выходя на дорогу, мужчина.
Лошадь остановилась.
«Вас посылает нам судьба», – сказала радостно женщина.
«Чего?» – спросил возница.
«Я говорю, сама судьба послала вас к нам».
«Чего?»
Мужчина вмешался:
«Как бы нам…»
«Довести, что ль? Садись…» Он не спросил – куда.
И они уселись рядком с другой стороны, возчик чмокнул губами, поднял кнут, лошадь затрусила по ухабистой дороге. Спутник обхватил даму за талию; телега вихлялась в кривых колеях. Стало светлеть. Чем темней становилась дорога, тем ярче разгоралось серебряное зарево над лесом.
«А куда, собственно, мы едем?»
Вожатый молчал, дама снова спросила. Он пробормотал: «Не боись. Доедем».
Выехали на опушку. Небо, пепельно-розоватое на западе, раскрылось над ними, синяя луна стояла над лесом. Озеро в чёрных камышах блестело, как жесть.
«Ещё не приехали, потерпи чуток». Телега остановилась у воды.
«Я проголодалась», – сказала женщина.
«Там найдёшь».
Держась за руку спутника, она ступила в лодку. Мужичок оттолкнулся веслом, лодка выехала из камышей. Слышался только мерный всплеск опускающихся вёсел, лодка оставляла серебристый след на тёмной, как графит, воде. Тьма сгущалась. Подплыли к острову. Вожатый остался в челне. Вот, сказал он, живите, сколько хотите. Мужчина вынул кошелёк, мужик покачал головой.
Мужчина и женщина выбрались на берег. Свет луны, мертвенно-синий, превратил всё кругом в сновидение. Любовники обернулись: не было ни мужика, ни лодки. Взошли на крыльцо, вступили в сени и обнялись, не сказав друг другу ни слова.
Дневник сочинителя
Тютчев в Мюнхене
1
Гейне, проживший вторую половину жизни в изгнании, жаловался, что, произносимое по-французски, его имя – Henri Heine – превращается в ничто: Un rien.
Может быть, относительно небольшая известность Фёдора Ивановича Тютчева в Германии объясняется фатальной непроизносимостью его имени для немецких уст. О том, что Тютчев был полуэмигрантом и что его творчество невозможно интерпретировать вне связи с немецкой поэзией и философией, в бывшем Советском Союзе предпочитали помалкивать, но и в Мюнхене мало кто знает о русском поэте, который прожил здесь, по его словам, «тысячу лет».
Весной 1828 года Гейне в письме из Мюнхена в Берлин спрашивал Фарнгагена фон Энзе, дипломата и писателя, в наше время более известного тем, что он был мужем хозяйки берлинского литературного салона Рахели Фарнгаген, знаком ли он с дочерьми графа Ботмера. «Одна из них уже не первой молодости, но бесконечно очаровательна. Она в тайном браке с моим лучшим здешним другом, молодым русским дипломатом Тютчевым. Обе дамы, мой друг Тютчев и я частенько обедаем вместе».
Через много лет, уже покинув Германию (где на самом деле он провёл без малого 15 лет), Тютчев рассказывал: «Судьбе было угодно вооружиться последней рукой Толстого, чтобы переселить меня в чужие края». Имелся в виду троюродный дядя, герой войны с Наполеоном, потерявший руку под Кульмом, граф Остерман-Толстой, который выхлопотал для племянника место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии при баварском дворе. Отъезд состоялся 11 июня 1822 г.: из Петербурга через Лифляндию в Берлин и далее на юго-запад. В карете, лицом к дяде, спиной к отечеству, сидел 18-летний кандидат Московского университета по разряду словесных наук. На козлах подле кучера клевал носом старый дядька Тютчева Николай Хлопов. Недели через две добрались до Мюнхена.
На Отто штрассе, дом № 248 (которого давно нет в помине, да и нынешняя улица Отто находится в другом месте), была снята просторная и дороговатая для юного чиновника 14 класса квартира, которую старый слуга, опекавший «дитё», обставил на старинный российский лад. В гостиной, в красном углу высели в несколько рядов иконы и лампады. Хлопов вёл хозяйство, сам готовил для барчука, встречал и угощал немецких гостей. Вечерами в своей каморке он сочинял обстоятельные отчёты для родителей Фёдора Ивановича, владельцев родового имения в селе Овстуг Орловской губернии.
2
Русский дом, запах просвир и лампадного масла – и католическая Бавария, королевский двор и местный бомонд. В политических одах и статьях Тютчева, не лучшем из того, что он создал, он заявляет себя патриотом и славянофилом; в революционном 1848 году – свержение короля Луи-Филиппа в Париже, мартовские события в германских землях – он пишет о «святом ковчеге», который всплывает над великим потопом, поглотившим Европу. «Запад исчезает, всё гибнет…». Спасительный ковчег – Российская православная империя. В изумительном стихотворении «Эти бедные селенья…» (1855) говорится о Христе, благословляющем русскую землю. А в жизни Тютчев – западник, «у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам», – пишет Иван Киреевский, который тоже обитал в Мюнхене на рубеже 20-30-х годов. Время от времени Тютчев наезжает в Россию, и выясняется, что он не в состоянии прожить двух недель в русской деревне. Это патриотизм а distance, любовь, которая требует расстояния. И ещё долгие годы спустя, вспоминая Баварию, он будет испытывать «nostalgic, seulement en sens contraire», ностальгию наоборот. Вон из возлюбленного отечества… Для этой странной антиностальгии у него находится словечко, образованное по аналогии с немецким Heimweh, – Herausweh.
Стихи о природе – «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Весенние воды» («Ещё в полях белеет снег…», «Зима недаром злится…», «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть…»), признанные шедевры русской пейзажной лирики, – на самом деле навеяны ландшафтами Верхней Баварии, под впечатлением от поездок на озеро Тегернзее. Свиданием с мюнхенской красавицей, баронессой Амалией Крюденер, урождённой Лерхен-фельд, вдохновлено стихотворение «Я встретил вас – и всё былое…», которое создано за два года до смерти. Положенное на музыку в конце позапрошлого века одним забытым ныне композитором, оно стало популярнейшим русским романсом.
В Мюнхене молодой россиянин, забросив служебные обязанности, и без того не слишком обременительные, быстро обзаводится друзьями.
Гейне надеется с его помощью, через знакомства, приобретённые в доме Тютчева, получить профессуру в мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. Барон Карл фон Пфеффель, камергер баварского двора, утверждал, что «за вычетом Шеллинга и старого графа де Монжела Тютчев не находил собеседников, равных себе, хотя едва вышел из юношеского возраста». Огромный седовласый Шеллинг старше Тютчева почти на тридцать лет, это не мешает ему увлечённо спорить с бывшим московским студентом, который доказывает автору «Системы трансцендентального идеализма» несостоятельность его истолкования догматов христианской веры. Киреевский приводит слова Шеллинга: «Очень замечательный человек, очень осведомлённый человек, с ним всегда интересно поговорить».
Тютчев, на которого Гейне (по мнению Юрия Тынянова) ссылается, не называя его по имени, в одной из своих статей, первым начал переводить стихи Гейне на русский язык; с этих переводов пошла необыкновенная, верная и трогательная любовь русских читателей к Генриху Гейне. Среди многочисленных тютчевских переложений с немецкого есть даже одно стихотворение короля Людвига I. Но о том, что Тютчев – поэт, который не уступит самому Гейне, никто или почти никто в Мюнхене не подозревает; известность Тютчева – другого рода.
3
У Тютчева двойная репутация: блестящего собеседника и любимца женщин. Существует донжуанский список Пушкина (наверняка неполный) – листок из альбома одной московской приятельницы с начертанными рукой 30-летнего поэта именами тридцати четырёх дам разного возраста и состояния, одаривших его своей благосклонностью. Кое-что сближает Тютчева с Пушкиным: влюбчивость, способность воспламениться, проведя с незнакомкой десять минут, – как и малоподходящая для покорителя сердец внешность.
Тютчев был маленького роста, болезненный и тщедушный, с редкими, рано начавшими седеть волосами. Этот человек не отличался ни честолюбием, ни сильной волей, скорее его можно было назвать бесхарактерным. Карьера его не интересовала. О его рассеянности ходили анекдоты. Однажды он явился на званый обед, когда гости уже вставали из-за стола. На другой день жены Тютчева не было дома, некому было заказать обед, он снова остался без еды. На третий день его нашли в Придворном саду: он лежал на скамейке без чувств. Остроты Тютчева, его mots, расходились по салонам, но сам он был начисто лишён тщеславия, в том числе и авторского, писал свои вирши мимоходом, не интересовался публикациями и терял рукописи. Если бы ему сказали, какое место он займёт на русском Олимпе, он был бы удивлён.
Меньше всего он напоминал Дон-Жуана. И всё же это был тот случай, когда мужчины пожимают плечами, недоумевая, что может привлечь в этаком слабаке женщин, зато женщины оказываются под порабощающим гипнозом необъяснимых чар – блистательного ума.
При всём том Тютчев – отнюдь не певец счастливой, самоупоённой любви:
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
«В этом слове – два смысла, и один смысл может уничтожить другой. Вы будете смеяться, но любовь, настоящая любовь, которая всегда включает в себя преклонение перед тем, кого любишь, благоговение, что ли… такая любовь в самом деле может сделать человека на какое-то время импотентом».
«Это я поняла из вашего рассказа. Вы пережили эту любовь, вы не можете её забыть, она измучила вас, оттого вы и предпочли любовь без любви. Я вам рассказала, как повёл себя мой муж в нашу первую ночь. Как видите, я тоже не могу позабыть эту историю».
Женщина остановилась.
«В чём дело?»
«Я думаю, – проговорила она, – что наша с вами история закончилась, даже не начавшись».
Наша история началась после того, как она закончилась, хотел он сказать – и тоже остановился.
Купидон
Ага, вскричал он, я же говорил! Мы на верном пути. В сумраке лесную тропу пересекала просёлочная дорога, виднелись колеи; вопрос был только в том, куда повернуть, направо или налево. Я думаю – куда зашло солнце, сказала спутница, по-моему, железная дорога находится на западе. Собирается ли она вернуться в город, спросил он. Визг плохо смазанных колёс вывел их из недоумения. Из-за поворота показался экипаж, лошадь кивала большой головой. Сидя боком, ехал мужичок на телеге, маленький, как ребёнок, свесив ноги в больших сапогах.
«Эй, дядя», – сказал, выходя на дорогу, мужчина.
Лошадь остановилась.
«Вас посылает нам судьба», – сказала радостно женщина.
«Чего?» – спросил возница.
«Я говорю, сама судьба послала вас к нам».
«Чего?»
Мужчина вмешался:
«Как бы нам…»
«Довести, что ль? Садись…» Он не спросил – куда.
И они уселись рядком с другой стороны, возчик чмокнул губами, поднял кнут, лошадь затрусила по ухабистой дороге. Спутник обхватил даму за талию; телега вихлялась в кривых колеях. Стало светлеть. Чем темней становилась дорога, тем ярче разгоралось серебряное зарево над лесом.
«А куда, собственно, мы едем?»
Вожатый молчал, дама снова спросила. Он пробормотал: «Не боись. Доедем».
Выехали на опушку. Небо, пепельно-розоватое на западе, раскрылось над ними, синяя луна стояла над лесом. Озеро в чёрных камышах блестело, как жесть.
«Ещё не приехали, потерпи чуток». Телега остановилась у воды.
«Я проголодалась», – сказала женщина.
«Там найдёшь».
Держась за руку спутника, она ступила в лодку. Мужичок оттолкнулся веслом, лодка выехала из камышей. Слышался только мерный всплеск опускающихся вёсел, лодка оставляла серебристый след на тёмной, как графит, воде. Тьма сгущалась. Подплыли к острову. Вожатый остался в челне. Вот, сказал он, живите, сколько хотите. Мужчина вынул кошелёк, мужик покачал головой.
Мужчина и женщина выбрались на берег. Свет луны, мертвенно-синий, превратил всё кругом в сновидение. Любовники обернулись: не было ни мужика, ни лодки. Взошли на крыльцо, вступили в сени и обнялись, не сказав друг другу ни слова.
Дневник сочинителя
Тютчев в Мюнхене
1
Гейне, проживший вторую половину жизни в изгнании, жаловался, что, произносимое по-французски, его имя – Henri Heine – превращается в ничто: Un rien.
Может быть, относительно небольшая известность Фёдора Ивановича Тютчева в Германии объясняется фатальной непроизносимостью его имени для немецких уст. О том, что Тютчев был полуэмигрантом и что его творчество невозможно интерпретировать вне связи с немецкой поэзией и философией, в бывшем Советском Союзе предпочитали помалкивать, но и в Мюнхене мало кто знает о русском поэте, который прожил здесь, по его словам, «тысячу лет».
Весной 1828 года Гейне в письме из Мюнхена в Берлин спрашивал Фарнгагена фон Энзе, дипломата и писателя, в наше время более известного тем, что он был мужем хозяйки берлинского литературного салона Рахели Фарнгаген, знаком ли он с дочерьми графа Ботмера. «Одна из них уже не первой молодости, но бесконечно очаровательна. Она в тайном браке с моим лучшим здешним другом, молодым русским дипломатом Тютчевым. Обе дамы, мой друг Тютчев и я частенько обедаем вместе».
Через много лет, уже покинув Германию (где на самом деле он провёл без малого 15 лет), Тютчев рассказывал: «Судьбе было угодно вооружиться последней рукой Толстого, чтобы переселить меня в чужие края». Имелся в виду троюродный дядя, герой войны с Наполеоном, потерявший руку под Кульмом, граф Остерман-Толстой, который выхлопотал для племянника место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии при баварском дворе. Отъезд состоялся 11 июня 1822 г.: из Петербурга через Лифляндию в Берлин и далее на юго-запад. В карете, лицом к дяде, спиной к отечеству, сидел 18-летний кандидат Московского университета по разряду словесных наук. На козлах подле кучера клевал носом старый дядька Тютчева Николай Хлопов. Недели через две добрались до Мюнхена.
На Отто штрассе, дом № 248 (которого давно нет в помине, да и нынешняя улица Отто находится в другом месте), была снята просторная и дороговатая для юного чиновника 14 класса квартира, которую старый слуга, опекавший «дитё», обставил на старинный российский лад. В гостиной, в красном углу высели в несколько рядов иконы и лампады. Хлопов вёл хозяйство, сам готовил для барчука, встречал и угощал немецких гостей. Вечерами в своей каморке он сочинял обстоятельные отчёты для родителей Фёдора Ивановича, владельцев родового имения в селе Овстуг Орловской губернии.
2
Русский дом, запах просвир и лампадного масла – и католическая Бавария, королевский двор и местный бомонд. В политических одах и статьях Тютчева, не лучшем из того, что он создал, он заявляет себя патриотом и славянофилом; в революционном 1848 году – свержение короля Луи-Филиппа в Париже, мартовские события в германских землях – он пишет о «святом ковчеге», который всплывает над великим потопом, поглотившим Европу. «Запад исчезает, всё гибнет…». Спасительный ковчег – Российская православная империя. В изумительном стихотворении «Эти бедные селенья…» (1855) говорится о Христе, благословляющем русскую землю. А в жизни Тютчев – западник, «у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам», – пишет Иван Киреевский, который тоже обитал в Мюнхене на рубеже 20-30-х годов. Время от времени Тютчев наезжает в Россию, и выясняется, что он не в состоянии прожить двух недель в русской деревне. Это патриотизм а distance, любовь, которая требует расстояния. И ещё долгие годы спустя, вспоминая Баварию, он будет испытывать «nostalgic, seulement en sens contraire», ностальгию наоборот. Вон из возлюбленного отечества… Для этой странной антиностальгии у него находится словечко, образованное по аналогии с немецким Heimweh, – Herausweh.
Стихи о природе – «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Весенние воды» («Ещё в полях белеет снег…», «Зима недаром злится…», «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть…»), признанные шедевры русской пейзажной лирики, – на самом деле навеяны ландшафтами Верхней Баварии, под впечатлением от поездок на озеро Тегернзее. Свиданием с мюнхенской красавицей, баронессой Амалией Крюденер, урождённой Лерхен-фельд, вдохновлено стихотворение «Я встретил вас – и всё былое…», которое создано за два года до смерти. Положенное на музыку в конце позапрошлого века одним забытым ныне композитором, оно стало популярнейшим русским романсом.
В Мюнхене молодой россиянин, забросив служебные обязанности, и без того не слишком обременительные, быстро обзаводится друзьями.
Гейне надеется с его помощью, через знакомства, приобретённые в доме Тютчева, получить профессуру в мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. Барон Карл фон Пфеффель, камергер баварского двора, утверждал, что «за вычетом Шеллинга и старого графа де Монжела Тютчев не находил собеседников, равных себе, хотя едва вышел из юношеского возраста». Огромный седовласый Шеллинг старше Тютчева почти на тридцать лет, это не мешает ему увлечённо спорить с бывшим московским студентом, который доказывает автору «Системы трансцендентального идеализма» несостоятельность его истолкования догматов христианской веры. Киреевский приводит слова Шеллинга: «Очень замечательный человек, очень осведомлённый человек, с ним всегда интересно поговорить».
Тютчев, на которого Гейне (по мнению Юрия Тынянова) ссылается, не называя его по имени, в одной из своих статей, первым начал переводить стихи Гейне на русский язык; с этих переводов пошла необыкновенная, верная и трогательная любовь русских читателей к Генриху Гейне. Среди многочисленных тютчевских переложений с немецкого есть даже одно стихотворение короля Людвига I. Но о том, что Тютчев – поэт, который не уступит самому Гейне, никто или почти никто в Мюнхене не подозревает; известность Тютчева – другого рода.
3
У Тютчева двойная репутация: блестящего собеседника и любимца женщин. Существует донжуанский список Пушкина (наверняка неполный) – листок из альбома одной московской приятельницы с начертанными рукой 30-летнего поэта именами тридцати четырёх дам разного возраста и состояния, одаривших его своей благосклонностью. Кое-что сближает Тютчева с Пушкиным: влюбчивость, способность воспламениться, проведя с незнакомкой десять минут, – как и малоподходящая для покорителя сердец внешность.
Тютчев был маленького роста, болезненный и тщедушный, с редкими, рано начавшими седеть волосами. Этот человек не отличался ни честолюбием, ни сильной волей, скорее его можно было назвать бесхарактерным. Карьера его не интересовала. О его рассеянности ходили анекдоты. Однажды он явился на званый обед, когда гости уже вставали из-за стола. На другой день жены Тютчева не было дома, некому было заказать обед, он снова остался без еды. На третий день его нашли в Придворном саду: он лежал на скамейке без чувств. Остроты Тютчева, его mots, расходились по салонам, но сам он был начисто лишён тщеславия, в том числе и авторского, писал свои вирши мимоходом, не интересовался публикациями и терял рукописи. Если бы ему сказали, какое место он займёт на русском Олимпе, он был бы удивлён.
Меньше всего он напоминал Дон-Жуана. И всё же это был тот случай, когда мужчины пожимают плечами, недоумевая, что может привлечь в этаком слабаке женщин, зато женщины оказываются под порабощающим гипнозом необъяснимых чар – блистательного ума.
При всём том Тютчев – отнюдь не певец счастливой, самоупоённой любви:
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты