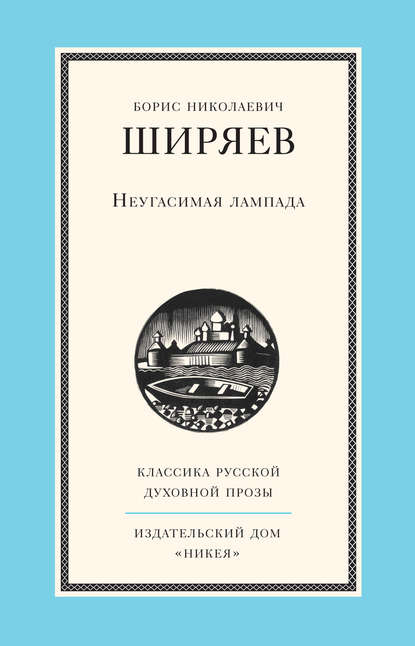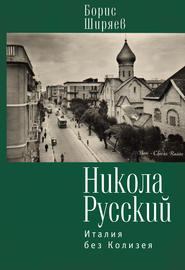По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неугасимая лампада
Автор
Жанр
Год написания книги
1954
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Завоет у ворот, —
почти точно повторяют стихи Байрона.
Организаторами «Своих» были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен.
Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили, и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но «на деле» не попался, а был схвачен в облаве на «социально-вредных» и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порою искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие «рубашечные» роли… Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой.
Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной «героикой» воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился «к месту» и среди «своих», где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим.
Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например, в роли Незнамова.
Безусловно талантливым был третий – Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или «соловецкого Беранже». С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, т. к. его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене.
– Ишь, с… с…, как продергивает! С песком чистит!
Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром.
Он был «премьером» «Своих», но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в сто пятьдесят человек, созданный и обученный бывшим регентом Императорского конвоя, глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен.
ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 года. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути.
Слушая песни «Своих», Глубоковский и я заинтересовались «блатным» языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, «блатные» слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них:
Шли два уркагана
С одесского кичмана,[12 - Даю перевод «блатных» слов: «уркаган» – вор, «кичман» – тюрьма, «малина» – притон, «ширмач» – карманник, «сыграть в ящик» – умереть, «фарт» – удача, а также жребий, судьба, «бан» – вокзал, «малахольные» – одуревшие, «легавый» – полицейский или милиционер. – Б. Ш.]
С одесского кичмана на домой.
И только ступили
На тухлую малину,
Как их разразило грозой…
Товарищ, миляга,
Ширмач и бродяга, —
Один уркаган говорит, —
Судьбу свою я знаю,
Что в ящик я сыграю,
И очинно сердце болит…
Другой отвечает:
И он фарт свой знает,
Болят его раны на груде,
Одна затихает
Другая начинает,
А третия рана на боке…
– Товарищ, миляга,
И я – доходяга,
Зарой мое тело на бану!
Пусть помнят малахольные
Легавые довольные
Геройскую погибшую шпану!
Не напоминает ли текст этой песни «Двух гренадеров», отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира?
На свою работу мы смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОН, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в сто тиражом в 2000 экз., и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов…
Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь».
Но двенадцать обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОН по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению и наш труд даром не пропал.
Глава 10
Под охрану дьявола
Яшке Цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартило. В лес не погнали. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясавшегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на «колесах»[13 - Колеса (жарг.) – обувь.] Цыгана.
Эта принадлежность его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки Цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка, но в настоящее время подошва одного полностью отсутствовала, а у другого не хватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а, наоборот, будировали его творческую мысль. Подошву заменяла доска, вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой.
Сам Цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжей о плиты пола. Он был вообще оптимистом.
Это-то, вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора и, хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул:
– Эй, ты, франт кривой! Топай сюда!
Сдав партию лесорубов конвою, грузин повел Цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской кухней и указал:
– Очищай помещение! Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить. Блатная работа.
Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло.
От Мерцалова было мало толка. Сухой, удушливый кашель карежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту.
– Ты, доходяга, хоть доски-то из угла отваливай помалу, – покрикивал на него Цыган, – тяни на себя! Стой! Это что за хреновина?
Под досками, в груде обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла…
– Может «рыжий»?[14 - «Рыжий» – золотой.] Монахи богато жили… Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря.
– Не! Не «рыжий»! Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако, работа тонкая, узорная. Клади в сторонку, там разберем.
При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили что-то вроде знамен с изорванными ветхими полотнищами, а на полотнищах – образа.
Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить[15 - Затырить (жарг.) – спрятать.], конечно, возможно. Но какой от того «фарт»? Какому чорту эти фонари нужны? Выгоднее доложить по начальству: может, и наградят?
А начальство, в лице Баринова, уже само входило в подвал.
– Клад нашли, гражданин начальник, – разлетелся к нему Цыган, – вот посмотрите, какие финемоны… – Цыган любил умные слова.
– Барахло… Принадлежности культа, – ткнул ногою хоругви Баринов, – ты, однако, посматривай. Может, и что путное попадется. Все возможно.
– Путному-то мы и без тебя место найдем, – подумал Цыган. – Будьте благонадежны, гражданин Баринов, не упустим, – добавил он вслух, – а вы прикажите меня к этой работе прикрепить. Уж я!..
– Ладно! Ты и отвечать будешь. Как фамилия?
почти точно повторяют стихи Байрона.
Организаторами «Своих» были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен.
Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили, и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но «на деле» не попался, а был схвачен в облаве на «социально-вредных» и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порою искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие «рубашечные» роли… Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой.
Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной «героикой» воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился «к месту» и среди «своих», где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим.
Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например, в роли Незнамова.
Безусловно талантливым был третий – Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или «соловецкого Беранже». С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, т. к. его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене.
– Ишь, с… с…, как продергивает! С песком чистит!
Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром.
Он был «премьером» «Своих», но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в сто пятьдесят человек, созданный и обученный бывшим регентом Императорского конвоя, глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен.
ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 года. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути.
Слушая песни «Своих», Глубоковский и я заинтересовались «блатным» языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, «блатные» слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них:
Шли два уркагана
С одесского кичмана,[12 - Даю перевод «блатных» слов: «уркаган» – вор, «кичман» – тюрьма, «малина» – притон, «ширмач» – карманник, «сыграть в ящик» – умереть, «фарт» – удача, а также жребий, судьба, «бан» – вокзал, «малахольные» – одуревшие, «легавый» – полицейский или милиционер. – Б. Ш.]
С одесского кичмана на домой.
И только ступили
На тухлую малину,
Как их разразило грозой…
Товарищ, миляга,
Ширмач и бродяга, —
Один уркаган говорит, —
Судьбу свою я знаю,
Что в ящик я сыграю,
И очинно сердце болит…
Другой отвечает:
И он фарт свой знает,
Болят его раны на груде,
Одна затихает
Другая начинает,
А третия рана на боке…
– Товарищ, миляга,
И я – доходяга,
Зарой мое тело на бану!
Пусть помнят малахольные
Легавые довольные
Геройскую погибшую шпану!
Не напоминает ли текст этой песни «Двух гренадеров», отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира?
На свою работу мы смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОН, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в сто тиражом в 2000 экз., и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов…
Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь».
Но двенадцать обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОН по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению и наш труд даром не пропал.
Глава 10
Под охрану дьявола
Яшке Цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартило. В лес не погнали. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясавшегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на «колесах»[13 - Колеса (жарг.) – обувь.] Цыгана.
Эта принадлежность его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки Цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка, но в настоящее время подошва одного полностью отсутствовала, а у другого не хватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а, наоборот, будировали его творческую мысль. Подошву заменяла доска, вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой.
Сам Цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжей о плиты пола. Он был вообще оптимистом.
Это-то, вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора и, хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул:
– Эй, ты, франт кривой! Топай сюда!
Сдав партию лесорубов конвою, грузин повел Цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской кухней и указал:
– Очищай помещение! Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить. Блатная работа.
Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло.
От Мерцалова было мало толка. Сухой, удушливый кашель карежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту.
– Ты, доходяга, хоть доски-то из угла отваливай помалу, – покрикивал на него Цыган, – тяни на себя! Стой! Это что за хреновина?
Под досками, в груде обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла…
– Может «рыжий»?[14 - «Рыжий» – золотой.] Монахи богато жили… Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря.
– Не! Не «рыжий»! Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако, работа тонкая, узорная. Клади в сторонку, там разберем.
При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили что-то вроде знамен с изорванными ветхими полотнищами, а на полотнищах – образа.
Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить[15 - Затырить (жарг.) – спрятать.], конечно, возможно. Но какой от того «фарт»? Какому чорту эти фонари нужны? Выгоднее доложить по начальству: может, и наградят?
А начальство, в лице Баринова, уже само входило в подвал.
– Клад нашли, гражданин начальник, – разлетелся к нему Цыган, – вот посмотрите, какие финемоны… – Цыган любил умные слова.
– Барахло… Принадлежности культа, – ткнул ногою хоругви Баринов, – ты, однако, посматривай. Может, и что путное попадется. Все возможно.
– Путному-то мы и без тебя место найдем, – подумал Цыган. – Будьте благонадежны, гражданин Баринов, не упустим, – добавил он вслух, – а вы прикажите меня к этой работе прикрепить. Уж я!..
– Ладно! Ты и отвечать будешь. Как фамилия?