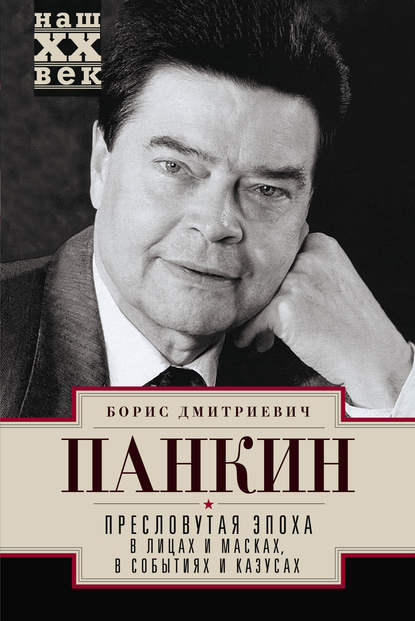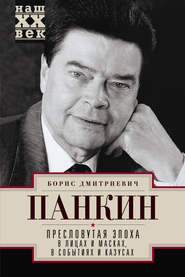По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фалатов с удовольствием нырял туда и без повода. Трудно было представить себе наш этаж без движущегося по нему вразвалочку Юры, сбивающего стаю для похода к «Савелию». Как-то застал его за этим занятием Аджубей, ставший к тому времени уже главным. В отличие от Горюнова, который предпочитал подняться в лифте, что был ближе к его кабинету, Алексей Иванович обожал пробежаться, с неизбежными остановками на пути, по длиннющему коридору: себя показать и на людей посмотреть.
– Юра, – спросил Аджубей, наткнувшись при одной из таких пробежек на группку спецкоров, деловито подсчитывавших перед экспедицией к «Савелию» свои скудные ресурсы, – не думаешь ли ты, Юра, что в твоем возрасте и с твоим опытом и мастерством можно было бы уже подумать и о более серьезной, взрослой газете?
– Да ить, папа, пока и отсюда не гонють, – невозмутимо ответствовал Фалатов, продолжая ворошить указательным пальцем правой руки лежавшие на ладони левой мятые руб левки.
И Аджубею, который еще пару лет назад сам с удовольствием принимал участие в экспедициях к «Савелию», оставалось только незаметно слинять.
Он был общеизвестным сердцеедом, Юра Фалатов. Хвастался, что перед ним ни одна не устоит, и однажды поделился со мной глубокомысленным заключением, что, мол, эти-то самые – он, разумеется, назвал вещи своими именами – «у них у всех одинакие». Так было до тех пор, пока не пришла к Юре великая любовь, которая перевернула всю его жизнь. Обреталась эта до поры до времени не узнанная им любовь на седьмом этаже комбината «Правда», звалась Ниной, или, на Юрином языке, Нинкой, хорошо, что хоть не «папой», и работала завзалом правдинской столовой. Время она проводила в силу этого своего высокого положения в основном за кулисами, откуда доносились звоны посуды и запахи борща или соуса к котлетам, но иногда, при достаточном скоплении особ мужского пола, появлялась среди столиков с подносом или чайником в руках, и тогда можно было полюбоваться ее статной фигурой, очертаниями литых бедер под спускавшейся до половины колен юбкой и светло-шоколадной косой, выстроенной на голове в форме короны. Прямо как полвека спустя у Юлии Тимошенко. Ни взгляды наши, ни реплики нимало ее не смущали. Она любого могла отбрить и делала это с видимым удовольствием:
– Си-иди!
Словом, пока другие посматривали и облизывались, Юра и не заметил, как влюбился, «враз и навсегда». И пошла под откос вся его прежняя семейно-безалаберная жизнь с привычными преходящими скандалами дома по поводу то «перебора», то «пересыпа».
Ничто, ни жалобы жены, въедливой класс-дамы из ЦКШ, Центральной комсомольской школы, в парторганизацию, в которой тогда заправлял Шатуновский, ни увещевания друзей, до которых не сразу дошла вся серьезность ситуации, ни угрозы «Нинкиного» мужа, никто и ничто их не остановило. Просто Юра перешел в какой-то завалящий ведомственный журнал, оставив за собой возможность «подхалтуривать» в «Комсомолке», а она пищеблок в респектабельном редакционном учреждении сменила на рабочую столовку.
Судя по всему, эти производные от главной перемены не имели для них никакого значения. Они словно бы и не заметили их. Любовь налетела, как паводок весной, и затопила упругой волной все даже самые отдаленные уголки их жизни.
Мы редко виделись в ту пору, просто натыкались друг на друга, и я, пожав руки и попрощавшись, не мог без некоего трепета не посмотреть вслед этой паре, которая, держась за руки («комсомольская любовь»), торжественно шествовала по улице «Правды», бросая вызов судьбе и маловерам.
Думаю, что о своем судьбоносном вмешательстве в ход моей жизни Юра вспоминает гораздо реже, чем я. Заступиться за товарища, если он в его глазах этого стоит, для него было как помочь старику или ребенку пересечь напичканную транспортом улицу или протянуть руку поскользнувшемуся на обледенелой дорожке.
Илья Шатуновский. Он старше Фалатова и тем более меня. Всю войну прошел.
В «Комсомолку» и в журналистику вообще его привел… его мрачный бытовой юмор, нашедший себе применение в фельетонах. Пока в газете творил Семен Нариньяни, с его «Плесенью», «Диамарой», «Растиньяком из Таганрога», Шатуновский оставался в тени. Но после перехода Нариньяни в «Правду» вышел на первые роли. Был у него на подхвате еще Саша Суконцев, писавший фельетоны, как уверяли злословы, быть может, и сам Илья, «суконцевым языком».
Он не пренебрегал и шуточками с политическим оттенком. Помню, шла подготовка к какому-то комсомольскому съезду. Главным в этом процессе для его организаторов было написать и «затвердить наверху» основные документы – доклад, речь партийного лидера на съезде и т. д.
И коль скоро речь шла о комсомольском съезде, мобилизовывали «Комсомольскую правду».
Так и случилось, что Илье с одним нашим коллегой поручили написать обращение ЦК КПСС к съезду, а мне с напарником – поблагодарить за теплое отеческое, то бишь материнское, коль скоро речь идет о партии, напутствие.
Сидели в кабинетах на Маросейке и сочиняли. А Лен Карпинский, тогда секретарь по идеологии, обеспечивал нас чаем с сушками. Наша пара оказалась проворнее.
– Мы еще и не обратились к вам, а вы уже ответили, – констатировал без намека на улыбку Илья.
– И вообще, – продолжал он, то поднимая над рабочим столом, то укладывая на него свои крупные руки в неизменных нарукавниках, – люди будут читать – комсомол, партия, съезд, ЦК, а на самом деле это Шатуновский с Борей Панкиным переписывается.
Как и всякий журналист, пишущий на острые темы, тем более фельетонист, Илья считал своим долгом, даже честью, выбирать мишени покрупнее, что в те неславные времена, в которые он расцветал как первое перо «Комсомолки», не лишено было риска, порой весьма серьезного. Чем он, как и все мы, в свою очередь, гордился. И что его, как и всех нас, порой очень и очень подводило.
Как-то подошел ко мне Илья и предложил написать вместе фельетон о… Людмиле Гурченко.
Я вытаращил глаза. С одной стороны, после только что вышедшего фильма «Карнавальная ночь», который я готов был смотреть хоть каждый день, Гурченко была моим кумиром. С другой – я никогда еще не писал фельетонов и понятия не имел, как это делается. Была, правда, в университетские годы одна безуспешная попытка написать фельетон для «Крокодила», о которой запомнился только поход в редакцию, где два человека с унылыми минами, фамилия одного из которых была Костюков, читали и сортировали свежую почту. Одни письма они с мрачным «не смешно!» кидали в лукошко направо, другие с еще более мрачно брошенным «смешно» – в лукошко налево.
Шатуновский показал мне какие-то письма, протоколы милиции… Суть была в том, что, мол, опьяненная первым успехом молодая киноактриса стала отвечать на всякие низкопробные приглашения выступить, соглашалась в нарушение существующих законов на «левые» концерты, в результате часто оказывалась совсем в неподобающей ей компании, что, в свою очередь, чревато утратой требовательности к себе и, соответственно, таланта… Благородное назначение проектируемого опуса, стало быть, в том и состояло, чтобы предостеречь блистательно стартовавшую кинозвезду. Вот это-то соображение и сыграло роль последней капли, которая склонила чашу весов в пользу участия в этой затее. Поговорка о добрых намерениях, которые ведут в ад, была мне по молодости лет еще незнакома.
Короче говоря, мы засели с Шатуновским в его кабинете (своего отдельного у меня еще не было) и накатали фельетон «Чечетка налево». Я, правда, больше радовался «находкам» Ильи, чем искал сам.
Фельетон с ходу пошел в номер. Каждому, кто работал или работает в газете, знаком этот раздувающий ноздри охотника азарт… Заголовок, придуманный Аджубеем, относился не к Гурченко, а к ее товарищу по «диким» концертам, некоему лилипуту-чечеточнику Яше Большому.
На какое-то время и мы с Шатуновским стали «премьерами». Но ожидаемого удовлетворения мне эта слава, которую я довольно скоро стал трактовать как «геростратову», не принесла. Я переживал, что после, а то и в связи с нашим фельетоном, Гурченко долго нигде в кино не объявлялась. Радовался потом ее оглушительным успехам, когда она возродилась в своем уже ином качестве, дивился и дивлюсь ее фантастической неувядаемости, но никогда, ни сразу, ни потом, не делал попытки попросить у нее извинения.
Не трудно догадаться, что меня к этому обязывало чувство долга перед моим соавтором. Впрочем, и с ним объясниться по этому поводу в суматохе жизни, которая нас скоро чисто физически развела, не довелось.
Любая рана, если она не смертельна, в конце концов затягивается. Я постепенно перестал вспоминать об этом грехе молодости, когда обстоятельства и сам мой соавтор вдруг об этом мне напомнили. Практически сорок лет спустя. Даже у Александра Дюма, при всей его любви к расстояниям в пространстве и времени, такой дистанции в романах не было.
Шло представление моего «романа-биографии» «Четыре „Я“ Константина Симонова» в самом большом книжном магазине Москвы на Мясницкой. Народу пришло много, но преобладала, к моей вящей радости, «Комсомолка». Обнаружил я среди гостей и сильно постаревшего, в коляске Илью.
Он с видным удовольствием взял у меня из рук томик романа с нежным посвящением, а мне с как всегда таинственным видом, который мог предвещать что угодно, протянул папку с какими-то бумагами, в явной надежде, что я тут же ее открою…
Если бы я к тому времени не забыл напрочь о злополучном опыте нашей совместной работы, я бы подумал, что он вновь предлагает мне соавторство.
Поклонников много, автор один… Так что, несмотря на проявленную Ильей настойчивость, заглянуть в его досье мне удалось только по возвращении домой.
Ее содержимым был полуторагодовалой давности номер до того момента неизвестной мне газеты «Вечерний клуб», приложения к «Вечерке». Я развернул газету и ахнул. Старое, как бы сказал шолоховский Яков Лукич, возвращалось сызнова.
Мое первое побуждение было – отложить, отбросить ее в сторону. Второе – раскрыть снова. Сорок один год минул. Сколько за это время фундаментальных литературных сочинений родилось и ушло в небытие. А наша злополучная «Чечетка налево» здравствовала и даже вот удостоилась перепечатки, хоть и «с сокращениями».
Оказывается, через двадцать лет после появления фельетона вышла книга Людмилы Марковны «Аплодисменты» (и как это я пропустил ее!), где она по вполне понятным причинам не обошла и наше с Ильей Мироновичем совместное творение.
Прошло еще двадцать лет, и редакция «Вечернего клуба», следуя распространившейся моде устраивать «шумы вокруг былых скандалов», тоже вспомнила о нем. А заодно и о книге.
Рядом с фельетоном – выдержка из нее под недвусмысленным заголовком: «Страшное помнится долго».
За комментариями обратились к Шатуновскому. Поясняя (любимое им словечко!), приведенные Гурченко факты, он стоял на своем: «У Людмилы Марковны провалы в памяти».
А дальше уж совсем интригующее «Дознание», вернее, стенограмма его в Английском клубе сорок лет спустя. В возрожденном не сорок – восемьдесят лет спустя Благородном собрании, то есть бывшем Колонном зале Дома союзов Людмила Гурченко пела, танцевала и отвечала на вопросы. Затянувшуюся паузу в своем творческом развитии она теперь объясняла не появлением фельетона, а законом природы, когда «популярность опережает и умение жить, приспосабливаться. Так было со мной». Шатуновскому и здесь не изменил его мрачный юмор. Разъяснив со свойственной ему обстоятельностью, что против концертов юной Людмилы «на шпульно-катушечной фабрике в компании с Яшей Большим и братьями Подшиваловыми» мы выступили для ее же блага, он заявил, что и сейчас взялся за перо единст венно с филантропической целью – напомнить, что у фельетона был еще и второй автор, Боря Панкин, которого Людмила Марковна почему-то ни разу не упомянула, чем нарушила его авторские права. Не скажу, что я очень уж был благодарен старому товарищу за столь своеобразную защиту моих интересов. Но и сердиться на него был не в силах.
Его комментарии показались мне остроумнее, чем сам фельетон. Но я невольно вспомнил слова другого фельетониста, Леонида Лиходеева, которого я, уже став главным редактором, с удовольствием печатал в «Комсомолке», когда ему отказала «Литературка», убоявшись его заштрихованных нападок на власть.
– Борис Дмитриевич, – любил повторять Лиходеев, – самое плохое, когда хорошо делают то, что вообще не надо делать.
И это я отношу, конечно же, к «Чечетке налево». Да простит меня мой дорогой друг и соавтор.
Простил.
Два мира – два шапиро
Название этой главки принадлежит, естественно, мне. Motto – Д. П. Горюнову. Поработав несколько лет после «Комсомолки» первым заместителем главного «Правды», Горюнов осел на посту генерального директора ТАСС.
Просматривая в урочный час телеграммы иностранных информационных агентств, он наткнулся на сообщение главы московского отделения Ассошиэйтед Пресс Генри Шапиро о том, что… в Москве горят склады с бумагой, принадлежащие ТАСС. Он нажал на кнопку звонка:
– Шапиро ко мне.
Нет, речь шла уже не об американце, а об управляющем делами ТАСС. Когда тот возник у его стола, Горюнов сунул ему под нос сообщение.
– Таких сведений не имею, но прикажу проверить, – не растерялся управляющий.
Через пятнадцать минут он вернулся и подтвердил:
– Юра, – спросил Аджубей, наткнувшись при одной из таких пробежек на группку спецкоров, деловито подсчитывавших перед экспедицией к «Савелию» свои скудные ресурсы, – не думаешь ли ты, Юра, что в твоем возрасте и с твоим опытом и мастерством можно было бы уже подумать и о более серьезной, взрослой газете?
– Да ить, папа, пока и отсюда не гонють, – невозмутимо ответствовал Фалатов, продолжая ворошить указательным пальцем правой руки лежавшие на ладони левой мятые руб левки.
И Аджубею, который еще пару лет назад сам с удовольствием принимал участие в экспедициях к «Савелию», оставалось только незаметно слинять.
Он был общеизвестным сердцеедом, Юра Фалатов. Хвастался, что перед ним ни одна не устоит, и однажды поделился со мной глубокомысленным заключением, что, мол, эти-то самые – он, разумеется, назвал вещи своими именами – «у них у всех одинакие». Так было до тех пор, пока не пришла к Юре великая любовь, которая перевернула всю его жизнь. Обреталась эта до поры до времени не узнанная им любовь на седьмом этаже комбината «Правда», звалась Ниной, или, на Юрином языке, Нинкой, хорошо, что хоть не «папой», и работала завзалом правдинской столовой. Время она проводила в силу этого своего высокого положения в основном за кулисами, откуда доносились звоны посуды и запахи борща или соуса к котлетам, но иногда, при достаточном скоплении особ мужского пола, появлялась среди столиков с подносом или чайником в руках, и тогда можно было полюбоваться ее статной фигурой, очертаниями литых бедер под спускавшейся до половины колен юбкой и светло-шоколадной косой, выстроенной на голове в форме короны. Прямо как полвека спустя у Юлии Тимошенко. Ни взгляды наши, ни реплики нимало ее не смущали. Она любого могла отбрить и делала это с видимым удовольствием:
– Си-иди!
Словом, пока другие посматривали и облизывались, Юра и не заметил, как влюбился, «враз и навсегда». И пошла под откос вся его прежняя семейно-безалаберная жизнь с привычными преходящими скандалами дома по поводу то «перебора», то «пересыпа».
Ничто, ни жалобы жены, въедливой класс-дамы из ЦКШ, Центральной комсомольской школы, в парторганизацию, в которой тогда заправлял Шатуновский, ни увещевания друзей, до которых не сразу дошла вся серьезность ситуации, ни угрозы «Нинкиного» мужа, никто и ничто их не остановило. Просто Юра перешел в какой-то завалящий ведомственный журнал, оставив за собой возможность «подхалтуривать» в «Комсомолке», а она пищеблок в респектабельном редакционном учреждении сменила на рабочую столовку.
Судя по всему, эти производные от главной перемены не имели для них никакого значения. Они словно бы и не заметили их. Любовь налетела, как паводок весной, и затопила упругой волной все даже самые отдаленные уголки их жизни.
Мы редко виделись в ту пору, просто натыкались друг на друга, и я, пожав руки и попрощавшись, не мог без некоего трепета не посмотреть вслед этой паре, которая, держась за руки («комсомольская любовь»), торжественно шествовала по улице «Правды», бросая вызов судьбе и маловерам.
Думаю, что о своем судьбоносном вмешательстве в ход моей жизни Юра вспоминает гораздо реже, чем я. Заступиться за товарища, если он в его глазах этого стоит, для него было как помочь старику или ребенку пересечь напичканную транспортом улицу или протянуть руку поскользнувшемуся на обледенелой дорожке.
Илья Шатуновский. Он старше Фалатова и тем более меня. Всю войну прошел.
В «Комсомолку» и в журналистику вообще его привел… его мрачный бытовой юмор, нашедший себе применение в фельетонах. Пока в газете творил Семен Нариньяни, с его «Плесенью», «Диамарой», «Растиньяком из Таганрога», Шатуновский оставался в тени. Но после перехода Нариньяни в «Правду» вышел на первые роли. Был у него на подхвате еще Саша Суконцев, писавший фельетоны, как уверяли злословы, быть может, и сам Илья, «суконцевым языком».
Он не пренебрегал и шуточками с политическим оттенком. Помню, шла подготовка к какому-то комсомольскому съезду. Главным в этом процессе для его организаторов было написать и «затвердить наверху» основные документы – доклад, речь партийного лидера на съезде и т. д.
И коль скоро речь шла о комсомольском съезде, мобилизовывали «Комсомольскую правду».
Так и случилось, что Илье с одним нашим коллегой поручили написать обращение ЦК КПСС к съезду, а мне с напарником – поблагодарить за теплое отеческое, то бишь материнское, коль скоро речь идет о партии, напутствие.
Сидели в кабинетах на Маросейке и сочиняли. А Лен Карпинский, тогда секретарь по идеологии, обеспечивал нас чаем с сушками. Наша пара оказалась проворнее.
– Мы еще и не обратились к вам, а вы уже ответили, – констатировал без намека на улыбку Илья.
– И вообще, – продолжал он, то поднимая над рабочим столом, то укладывая на него свои крупные руки в неизменных нарукавниках, – люди будут читать – комсомол, партия, съезд, ЦК, а на самом деле это Шатуновский с Борей Панкиным переписывается.
Как и всякий журналист, пишущий на острые темы, тем более фельетонист, Илья считал своим долгом, даже честью, выбирать мишени покрупнее, что в те неславные времена, в которые он расцветал как первое перо «Комсомолки», не лишено было риска, порой весьма серьезного. Чем он, как и все мы, в свою очередь, гордился. И что его, как и всех нас, порой очень и очень подводило.
Как-то подошел ко мне Илья и предложил написать вместе фельетон о… Людмиле Гурченко.
Я вытаращил глаза. С одной стороны, после только что вышедшего фильма «Карнавальная ночь», который я готов был смотреть хоть каждый день, Гурченко была моим кумиром. С другой – я никогда еще не писал фельетонов и понятия не имел, как это делается. Была, правда, в университетские годы одна безуспешная попытка написать фельетон для «Крокодила», о которой запомнился только поход в редакцию, где два человека с унылыми минами, фамилия одного из которых была Костюков, читали и сортировали свежую почту. Одни письма они с мрачным «не смешно!» кидали в лукошко направо, другие с еще более мрачно брошенным «смешно» – в лукошко налево.
Шатуновский показал мне какие-то письма, протоколы милиции… Суть была в том, что, мол, опьяненная первым успехом молодая киноактриса стала отвечать на всякие низкопробные приглашения выступить, соглашалась в нарушение существующих законов на «левые» концерты, в результате часто оказывалась совсем в неподобающей ей компании, что, в свою очередь, чревато утратой требовательности к себе и, соответственно, таланта… Благородное назначение проектируемого опуса, стало быть, в том и состояло, чтобы предостеречь блистательно стартовавшую кинозвезду. Вот это-то соображение и сыграло роль последней капли, которая склонила чашу весов в пользу участия в этой затее. Поговорка о добрых намерениях, которые ведут в ад, была мне по молодости лет еще незнакома.
Короче говоря, мы засели с Шатуновским в его кабинете (своего отдельного у меня еще не было) и накатали фельетон «Чечетка налево». Я, правда, больше радовался «находкам» Ильи, чем искал сам.
Фельетон с ходу пошел в номер. Каждому, кто работал или работает в газете, знаком этот раздувающий ноздри охотника азарт… Заголовок, придуманный Аджубеем, относился не к Гурченко, а к ее товарищу по «диким» концертам, некоему лилипуту-чечеточнику Яше Большому.
На какое-то время и мы с Шатуновским стали «премьерами». Но ожидаемого удовлетворения мне эта слава, которую я довольно скоро стал трактовать как «геростратову», не принесла. Я переживал, что после, а то и в связи с нашим фельетоном, Гурченко долго нигде в кино не объявлялась. Радовался потом ее оглушительным успехам, когда она возродилась в своем уже ином качестве, дивился и дивлюсь ее фантастической неувядаемости, но никогда, ни сразу, ни потом, не делал попытки попросить у нее извинения.
Не трудно догадаться, что меня к этому обязывало чувство долга перед моим соавтором. Впрочем, и с ним объясниться по этому поводу в суматохе жизни, которая нас скоро чисто физически развела, не довелось.
Любая рана, если она не смертельна, в конце концов затягивается. Я постепенно перестал вспоминать об этом грехе молодости, когда обстоятельства и сам мой соавтор вдруг об этом мне напомнили. Практически сорок лет спустя. Даже у Александра Дюма, при всей его любви к расстояниям в пространстве и времени, такой дистанции в романах не было.
Шло представление моего «романа-биографии» «Четыре „Я“ Константина Симонова» в самом большом книжном магазине Москвы на Мясницкой. Народу пришло много, но преобладала, к моей вящей радости, «Комсомолка». Обнаружил я среди гостей и сильно постаревшего, в коляске Илью.
Он с видным удовольствием взял у меня из рук томик романа с нежным посвящением, а мне с как всегда таинственным видом, который мог предвещать что угодно, протянул папку с какими-то бумагами, в явной надежде, что я тут же ее открою…
Если бы я к тому времени не забыл напрочь о злополучном опыте нашей совместной работы, я бы подумал, что он вновь предлагает мне соавторство.
Поклонников много, автор один… Так что, несмотря на проявленную Ильей настойчивость, заглянуть в его досье мне удалось только по возвращении домой.
Ее содержимым был полуторагодовалой давности номер до того момента неизвестной мне газеты «Вечерний клуб», приложения к «Вечерке». Я развернул газету и ахнул. Старое, как бы сказал шолоховский Яков Лукич, возвращалось сызнова.
Мое первое побуждение было – отложить, отбросить ее в сторону. Второе – раскрыть снова. Сорок один год минул. Сколько за это время фундаментальных литературных сочинений родилось и ушло в небытие. А наша злополучная «Чечетка налево» здравствовала и даже вот удостоилась перепечатки, хоть и «с сокращениями».
Оказывается, через двадцать лет после появления фельетона вышла книга Людмилы Марковны «Аплодисменты» (и как это я пропустил ее!), где она по вполне понятным причинам не обошла и наше с Ильей Мироновичем совместное творение.
Прошло еще двадцать лет, и редакция «Вечернего клуба», следуя распространившейся моде устраивать «шумы вокруг былых скандалов», тоже вспомнила о нем. А заодно и о книге.
Рядом с фельетоном – выдержка из нее под недвусмысленным заголовком: «Страшное помнится долго».
За комментариями обратились к Шатуновскому. Поясняя (любимое им словечко!), приведенные Гурченко факты, он стоял на своем: «У Людмилы Марковны провалы в памяти».
А дальше уж совсем интригующее «Дознание», вернее, стенограмма его в Английском клубе сорок лет спустя. В возрожденном не сорок – восемьдесят лет спустя Благородном собрании, то есть бывшем Колонном зале Дома союзов Людмила Гурченко пела, танцевала и отвечала на вопросы. Затянувшуюся паузу в своем творческом развитии она теперь объясняла не появлением фельетона, а законом природы, когда «популярность опережает и умение жить, приспосабливаться. Так было со мной». Шатуновскому и здесь не изменил его мрачный юмор. Разъяснив со свойственной ему обстоятельностью, что против концертов юной Людмилы «на шпульно-катушечной фабрике в компании с Яшей Большим и братьями Подшиваловыми» мы выступили для ее же блага, он заявил, что и сейчас взялся за перо единст венно с филантропической целью – напомнить, что у фельетона был еще и второй автор, Боря Панкин, которого Людмила Марковна почему-то ни разу не упомянула, чем нарушила его авторские права. Не скажу, что я очень уж был благодарен старому товарищу за столь своеобразную защиту моих интересов. Но и сердиться на него был не в силах.
Его комментарии показались мне остроумнее, чем сам фельетон. Но я невольно вспомнил слова другого фельетониста, Леонида Лиходеева, которого я, уже став главным редактором, с удовольствием печатал в «Комсомолке», когда ему отказала «Литературка», убоявшись его заштрихованных нападок на власть.
– Борис Дмитриевич, – любил повторять Лиходеев, – самое плохое, когда хорошо делают то, что вообще не надо делать.
И это я отношу, конечно же, к «Чечетке налево». Да простит меня мой дорогой друг и соавтор.
Простил.
Два мира – два шапиро
Название этой главки принадлежит, естественно, мне. Motto – Д. П. Горюнову. Поработав несколько лет после «Комсомолки» первым заместителем главного «Правды», Горюнов осел на посту генерального директора ТАСС.
Просматривая в урочный час телеграммы иностранных информационных агентств, он наткнулся на сообщение главы московского отделения Ассошиэйтед Пресс Генри Шапиро о том, что… в Москве горят склады с бумагой, принадлежащие ТАСС. Он нажал на кнопку звонка:
– Шапиро ко мне.
Нет, речь шла уже не об американце, а об управляющем делами ТАСС. Когда тот возник у его стола, Горюнов сунул ему под нос сообщение.
– Таких сведений не имею, но прикажу проверить, – не растерялся управляющий.
Через пятнадцать минут он вернулся и подтвердил: