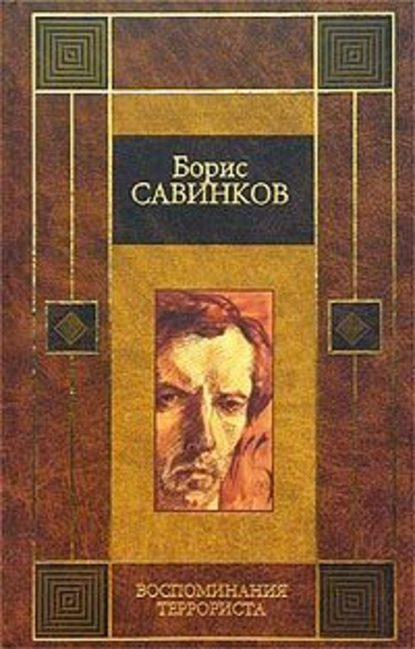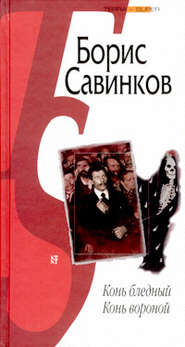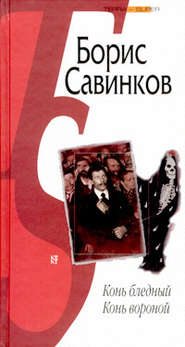По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь вороной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Куда?
– Куда хочешь… В Москву.
Опять Москва. Опять ни тени смущения. Опять нерассуждающая уверенность в своих – в моих – силах. Но вот лицо ее потемнело.
– А та… А барыня… Где живет?
– В Москве.
– В Москве…
Она плачет. Льются женские, обильные слезы.
Мне скучно. Я говорю:
– Груша, а Вреде?
– Офицерик-то, баринок-то этот?… Мало их, что ли? Липнут, точно мухи на мед. Для баловства они это, стоялые жеребцы…
Я знаю: она целиком со мною. Но что я могу? Ведь, может быть, завтра не будет Груши, не будет меня… Я целую ее. От нее пахнет сеном.
2 августа.
Иван Лукич – фабричное производство. Таких, как он, Россия ежедневно штампует десятки. Но он не нашего штампа. Мы выросли в парниках, в тюрьме или в «вишневом саду». Для нас книга была откровением. Мы знали Ницше, но не умели отличить озимых от яровых; «спасали» народ, но судили о нем по московским «Ванькам»; «готовили» революцию, но брезгливо отворачивались от крови. Мы были барами, народолюбцами из дворян. Нас сменили новые люди. Они «мечтают» единственно о себе.
Вечер. Теплится восковая свеча. Иван Лукич ночует сегодня в палатке. Он зевает, потом говорит:
– Хутор куплю, заведу голландских коров, лен посею… И женюсь на богатой.
– Да ведь вас сперва на «сосиски»…
– Не беспокойтесь. Я их рыбье слово знаю… Почему я от них ушел? Очень просто. Мне все равно: Совнарком, Советы, Учредительное собрание или даже пусть черт собачий… Но я работать хочу. Понимаете, для себя хочу, а не для барских затей или для социализации дурацкой. Ну а при коммуне разве это возможно? Зубри книжонки, пой «это будет последний…» да «товарищам» взятки давай. Вот когда мужик одолеет, то будет порядок. Мне нужен порядок: я за собственность. А где собственность, там должен быть и закон.
– А вы собственник?
– Нет. Но буду… Покойной ночи. Приятного сна.
Он тушит свечу и отворачивается к стене – к брезенту. Ему нужен порядок. Поэтому он «бандит». Он за собственность. Поэтому он был коммунистом… А Россия? Россия – «прикраса»… Не счастливее, не богаче ли я его?
3 августа.
Я иду проселком, между полями. Еще не скошена рожь, еще алеют красные маки, и в янтарных колосьях прячутся синие звездочки, васильки. Полдень. Сладкой горечью пахнет полынь.
У Можар я сворачиваю на большую дорогу. На дороге знакомый хутор. Здесь живет «резидент», мой старый приятель, купец Илья Кораблев.
Пусто на огородах. Пусто в конюшне. Пусто на просторном чисто выметенном дворе. Только в пруду полощутся и брызжут водою утки. На заборе – десятилетний мальчишка. Он болтает голыми, черными от загара ногами.
– Здравствуй… Не узнаешь, что ли, Володька?
– Проходи.
Проходи… Я люблю детей, люблю и Володьку. Он всегда выбегал мне навстречу. Он рассказывал про свои мальчишеские дела. Про головлей, про кукушкины гнезда, про крыс, про жеребую кобылу Феклушу. Но сегодня он мрачен. Он глядит исподлобья, волчонком.
– Тятька дома?
Он нахмурился и молчит.
– Где тятька?
– Нету тятьки… Убили. Приехали и убили.
– Кто убил?
– Да чего стоишь-то? Сказано: проходи…
– А мамка?
Дрогнули румяные губы. Он машет худой, тоже загорелой ручонкой.
– Мамка?… Мамку с собой… увезли…
– Что же ты, Володька, один?
– Я да Жучка остались… Да проходи ты, бестолковый какой… Неровен час, убьют и меня.
Я медленно возвращаюсь в лагерь.
4 августа.
Иван Лукич был в разведке. Он докладывает:
– Иду, а у Салопихинского ключа городской, милицейский. Подошел. Покурили, поговорили. То да се, да кто, да откуда. Я говорю: «коммунист» и документ ему показал. Он и пошел, я тоже, говорит, коммунист. Сколько я этих белых на своем веку в расход вывел… На сибирском фронте, у Омска… А теперь вот зеленых ловлю. Шайка тут бандитская завелась. Ну да мы ее живо поймаем. Попляшут они, родненькие, в Чека… Я слушал, слушал и говорю: «Молодец, нечего сказать, молодец…» А потом наган вынул и приставил к виску. Он не верит: «Полно шутить, товарищ…» – «Какие шутки?… Руки, родненький, вверх»… Так у него даже волосы под шапкой зашевелились. Вот часы и партийный билет.
Федя вертит часы в руках. Часы золотые со звоном. Федя ставит стрелку на «звон»:
– Три, четыре, пять, шесть… Шесть часов. Вот так ловко… Самоварчик разве поставить?… Эх, верчу, переверчу, самоварчик вскипячу да Ивану Лукичу… С находкой вас, господин корнет.
5 августа.
«Не убий…» Мне снова вспоминаются эти слова. Кто сказал их? Зачем?… Зачем неисполнимые, непосильные для немощных душ заветы? Мы живем «в злобе и зависти, мы гнусны и ненавидим друг друга». Но ведь не мы раскрыли книгу, написанную «внутри и отвне». Но ведь не мы сказали: «Иди и смотри…» Один конь – белый, и всаднику даны лук и венец. Другой конь – рыжий, и у всадника меч. Третий конь – бледный, и всаднику имя смерть. А четвертый конь – вороной, и у всадника мера в руке. Я слышу и многие слышат: «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»
6 августа.
Цветут липы. Земля обрызгана бледно-желтыми душистыми лепестками, зноем томится лес, дышит земляникой и медом. Неторопливо высвистывает свою песню удод, неторопливо скребутся поползни в сосновой коре, и звонко в тающих облаках кричит невидимый ястреб, днем – бестревожная жизнь, ночью – смерть. Ночью незаметно шелохнется трава и зашуршит листами орешник. Что-то жалостно пискнет… Жалкий то предсмертный писк. Я знаю: в лесу опять совершилось убийство.
7 августа.
Вреде мне говорит: