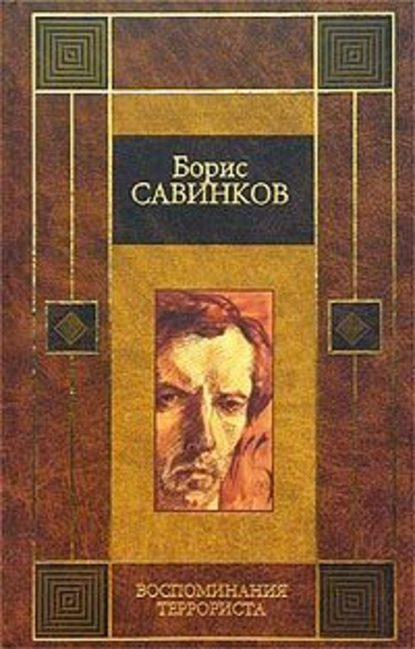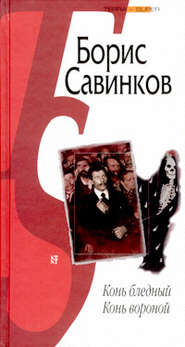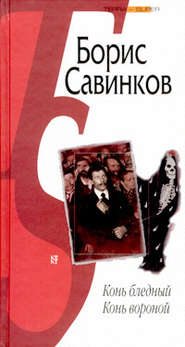По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь вороной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вреде арестовал «военкома» и привел его в лагерь. «Военком» – молодой человек в пенсне, из бывших студентов. Он бос: сапоги снял Мокеич. Он вздрагивает и озирается исподлобья. Я спрашиваю:
– Ты член коммунистической партии?
Он опускает глаза – не смеет признаться. Я смотрю на худое, иссиня бледное, перекошенное испугом лицо.
– Я повешу тебя.
Он падает в пыль, на колени. Он на коленях подползает ко мне:
– Товарищ!.. Товарищ полковник!.. Пощадите!.. Ведь я еще молодой…
– Из молодых да ранний… – перебивает его Егоров. – Вставай!.. Нечего зря болтать языком.
– Я молодой… Дайте мне послужить…
– Кому послужить?
– Народу…
– Народу хочешь служить? – говорит Егоров. – Бес. Сукин сын.
«Бандиты» смеются. Они рады: «военком», да еще студент… Свалилось с длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из глаз покатились слезы:
– Товарищ полковник!.. Товарищ полковник!..
Я вернулся в палатку. И из палатки услышал визг. Так не кричит человек. Так визжит подстреленный заяц.
25 июля.
За лагерем бежит речка, приток Днепра, Взмостя. Держась рукой за лозняк, я спускаюсь к заводи – к тихой воде. Осока царапает мне лицо, нога скользит по затонувшей коряге. Я плыву по течению. Наперерез плывет уж. Он поднял желтую, с раздвоенным жалом головку и ныряет в поднятых мною волнах. Я смотрю на него. Я смотрю на высокое солнце, на серебряный струящийся луч, на зеленый, поросший ольхою берег и не верю, не могу поверить себе, неужели завтра то же, что и сегодня? Неужели завтра снова «клюквенный сок»?
26 июля.
У меня две-три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Евангелие, рассказы Пушкина, стихи Баратынского. Сегодня я раскрыл наудачу:
Но ненастье заревет,
И до облак свод небесный,
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный.
Бедный дух! Ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, кружит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.
Не о нас ли сказаны эти слова? Не «пух» ли мы? Не «пух» ли повешенный «военком», сожженный Синицын, запоротый до полусмерти Кузьма? Не «пух» ли Федя, Егоров, Мокеич, мы все – зеленые, красные, белые – навоз и семя России?…
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.
27 июля.
Приехал из Москвы Федя. На нем новый, синего цвета, «педзяк» и щеголеватые бриджи в клетку. В этом наряде он похож на берейтора из провинциального цирка. Он доволен собой. Он то и дело вынимает зеркальце из кармана и приглаживает пробор: «кандибобером ходит»… Я спрашиваю его:
– Разменял?
– Разменял, господин полковник.
– Сколько?
– Две тысячи пятьсот фунтов.
Он рассказывает про привольную московскую жизнь. «Бандиты» окружили его. Они слушают с упоением. На вершинах дерев золото вечернего солнца. Внизу сумерки. Хороводами жужжат комары.
– Люди как люди и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на «роль-ройсах» возят. Одним словом, Кузнецкий Мост. Выйдешь часика этак в четыре – дым коромыслом: рысаки, содкомы, нэпманы, комиссары… Ни дать ни взять как до войны, при царе. Вот она, рабочая власть… Коммуной-то и не пахнет. В гору холуй пошел, жи-вут!.. А мы, сиволапые, рыжики в лесу собираем… Эх!..
Егоров морщит седые брови:
– Помалкивал бы в тряпичку, Федя. Соблазн.
– А что?… В Москву захотелось?
– Язва, отстань… Бесом стал. Бесов тешишь.
Федя смеется. Смеется и беспалый Мокеич, и выпоротый недавно Каплюга, и Титов, и Сенька, и Хведощеня, и вся лесная зеленая братия. Всем весело. Всем завидно. Завидно, что где-то, за тридевять земель, в далекой Москве, «в гору холуй пошел» и «люди живут по-людски».
«По-людски»: «девиц на „роль-ройсах“ возят»… Я спрашиваю себя: семя мы или только навоз?
28 июля.
Иван Лукич – казначей. Он пересчитал сегодня фунты и говорит мрачно:
– Вот мерзавцы… Украли.
– Много?
– Триста пятьдесят фунтов.
Домашний вор – худший вор. Я приказываю выстроить «шайку». «Бандиты» построились в три ряда на поляне, у «акулькина» клена, там, где жгли Синицына на костре. Моросит мелкий дождь.
– Смирно!
Они по-солдатски повернули глаза направо и замерли в ожидании. Я говорю:
– Ночью украли деньги. Кто украл, выходи.