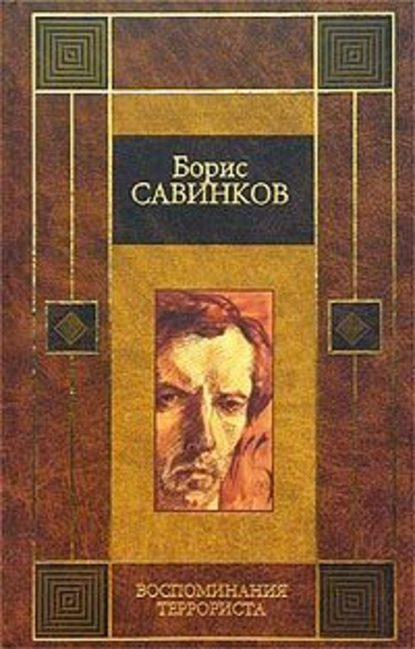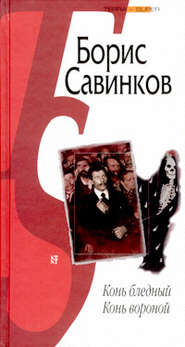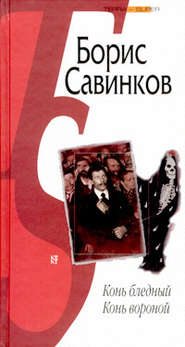По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь вороной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он нахмурился:
– Я поверил им как дурак… А они все наврали. Подлецы. Никому жить не дают. В свой карман норовят – и только.
9 июля.
Груша приходит ночью – босыми ногами пробирается по тропинкам. Меня волнует блеск ее глаз. Меня волнует ее молодое тело. В ней избыток неистраченных сил, неутолимая, почти звериная жажда. Покоем дышит земля. Тихо светится Млечный Путь. Спят как дети «бандиты». А в нас – палящий огонь.
Но Груша чужая. Мне чужд ее наивный язык: «Касатик… Соколик…» Я вспоминаю Ольгу. И мне кажется, что это не Груша, а Ольга обнимает меня, что это не Груша, а Ольга ищет моего поцелуя. Ольга… Где дно колодца, разделившего нас?
10 июля.
«И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. Такое землетрясение! Такое великое!» Но гармоники «наяривают» малиновым звоном, и парни горланят разухабистые частушки; но у околицы дерутся беловолосые, конечно, вшивые мальчуганы; но курится самогонка; но потрескивает и каплет смолой лучина; но матерная ругань висит топором. Те же расковырянные поля, те же неезженые проселки. А главное, там же «зимуют раки». Над этими «раками» я бьюсь давно и бесплодно… Где «молнии, громы и голоса»? Их нет. Есть вседержавная, всемужицкая, всероссийская порка, та самая, какая была при царе. И из-за этого пролились моря крови?…
Отец Груши, Степан Егорыч, «середняк» – прежде зажиточный, а теперь полуразоренный крестьянин. Я спросил его, почему деревня не поддержала белых? Он задумался:
– Многоуважаемый, как бы это тебе получше растолковать? Тут не только в баловстве дело. Ты вот что пойми. Я гол как сокол, и у меня паутина над образами. Зато сам себе барин. А придут генералы, может быть, и я разживусь, да не хозяином в своей хате, а холуем на барском дворе. Во то-то оно и есть.
– Но ведь тебя пo-прежнему порют?
– Порют. Да кто порет-то? Ведь свои. Свой брат, фабричный или мужик… Мы их, гадов, небось одолеем. А бар, пожалуй, не одолеть…
Не в помещичьей ли усадьбе «зимуют раки»?
11 июля.
Иван Лукич ходил к Духовщине. Он докладывает:
– Я вошел и говорю: «Товарищи, руки вверх!»
Мужики попадали на колени, а заведующий ключи мне сует: «Вот ключи, господин атаман…» Я приказал выбрасывать товар за окно: ситец, гвозди, кожу, подошвы. Потом говорю мужикам: «Бери, ребята… Все ваше». Они не верят: боятся. Я одному дал по шее: «Бери, дубина… Дарю». Стали расхватывать, подводы грузить. А заведующий, партийный работник, стоял-стоял, да как бросит шапку на пол: «Эх, елки зеленые, чем я хуже других?» И тоже стал подводу грузить. Коммунисты?… Знаю я их. Все они таковы.
Он принес миллиард советских рублей. Я положил их в денежный ящик. У ящика часовой. Я опасаюсь «бандитов». Не доглядишь, у своих украдут. Я мог бы тоже сказать: «Зеленые? Знаю я их… Все они таковы».
12 июля.
Груша мне говорит:
– А когда Ржев будешь брать?
– Ржев?
– Ну да. Ведь не век же на печи прохлаждаться…
– На печи?…
Она смеется:
– Чем не печь? Живете как в раю у Христа. Все у вас есть: и лошади, и коровы, и овцы, и самогонка. Кушаете, как баре, на скатертях. Отдыхаете, как купчихи, на шубах… Ишь, как этот одноглазый отъелся…
– Федя?
– Ну да, который вешатель твой.
– А тебе, Груша, завидно?
– Не завидно, а православные ждут.
– Ждут чего?
– Когда на Москву пойдешь.
Я смотрю на нее. Вот она рядом со мной, босоногая, в розовой кофте. В черных глазах ни тени смущения: надо идти на Москву.
– А почему мужики не идут?
– Силы их нету.
– Ну и у нас ее нет.
– У тебя?… У тебя силы нет?…
Она хочет и не умеет сказать. Она верит: для нее со мной все возможно. Ведь судьба «назначила меня к бою».
13 июля.
Я к вечеру возвращаюсь в лагерь. Садится солнце, в лесу сгущается мрак. Издали доносятся голоса. На поляне, под «акулькиным» кленом, костер. Толпятся «бандиты». Полыхают красные языки.
– Егоров!
Он подбрасывает поленьев в огонь. Потом не торопясь подходит ко мне.
– В чем дело, Егоров?
– Товарища провокатора жгем.
– Что?…
Я взглянул. Я только теперь заметил, что у клена стоит человек. Он привязан. Я узнаю Синицына, крестьянина из Можар. Сквозь дым белеются голые плечи. Торчит взлохмаченная, черная, закинутая вверх борода.
– Мерзавцы!..
– Никак нет, господин полковник. Что же с ним, с окаянным делать? Запороть – так время уйдет. Повесить – так людям зазорно будет… Вот и жгем помаленьку.
Я отвернулся. Я ушел без оглядки в поле. Уходя, я услышал:
– Бороду, Федя, бороду ему подпали.
14 июля.